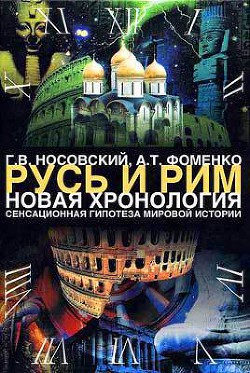как повелевало сердце! Но нет, нет… Строг Добрыня, насмешлив, все-то видит, даже и упрятанное в душе, ничего не упустит, вон опять послышался его голос:
— Мы ждем, княже!..
Владимир не помнил, что было потом, но, может, и не совсем так, и что-то он помнил, но сознание, не обремененное постыдным, чистое и светлое, не желало удерживать содеянное, отгоняло напрочь как раз по причине его постыдности; все же нет-нет да и представало перед ним, точно бы издалека, едва ли не из чуждого ему мира привнесенное, вдруг виделось молодое и сильное девичье тело и глаза, большие, страшные… глаза Рогнеды; она, обнаженная и, кажется, совсем не робеющая своей наготы, как бы запамятовавшая обо всем, крепко удерживаемая за руки отроками, не смотрела на него, а только на отца и на братьев, и шептала что-то… словно бы просила у них прощения. Но за что?.. Она ли повинна в том, что хотели сделать с нею?.. Нет, нет, не она спрашивала, Владимир спрашивал, а еще он желал бы знать, коль скоро повторилось бы сначала, он и тогда подчинился бы властному голосу Добрыни и ничего бы не поменял в себе и поступил бы так же?.. И не умел ответить.
«Что же это? Зачем?.. Но я не хочу! Не хочу!..» — шептал он, и на сердце у него было томительно и горько, как если бы он сам испытал бесчестие. В нем жила смута, в душе, но он еще не понимал про нее и думал, что она скоро ослабнет, а потом и вовсе исчезнет. Он не знал, что она совсем другая и, окрепнув, пребудет в нем долгие леты и станет заявлять о себе даже и в те поры, когда не ждешь ее, утеняя воссиявший впереди свет. Ах, если бы не то послание Рогнеды, гда она назвала его рабичем, сыном рабыни! Не будь его, может, все сложилось бы иначе, и не появилась бы надобность овладевать ею силой, может, и сладилось бы у них полюбовно, и теперь он не испытывал бы гнетущего чувства, которое сродни отчаянию, впрочем, не горячему и сильному, а как бы смешенному со жгучей стыдливостью и сомнением. Хотя почему бы тут взяться сомнению? Ведь он поступил так не по собственной прихоти, а следуя от давних времен отколовшему обычаю. Но что для него обычай, если не греет, и даже больше, холодом от него тянет, стылостью?..
Владимир сидел в седле, опустив поводья и мерно, подчиняясь неторопливой и машистой иноходи белого жеребца, покачивался. Небо поутру синее, даже глубинно-синее, куда ни кинешь взгляд, ни единого облачка, и это нагоняло на юного князя тихую, саму в себе, стороннему глазу неприметную тоску. Впрочем, скоро она ослабла, стала не так остра и болезненна, это когда от передовой сторожи донеслись до Владимира веселые возгласы, потом крики одобрения, и уж много позже, когда меж дружинных отроков поутихло, взнялись сначала негромкие и как бы теснящиеся друг подле друга, но с каждым мгновением все более набирающие силу песенные слова. Было в этих словах столько грусти и вместе какого-то светлого и ясного торжества человеческого духа, что у Владимира на сердце защемило, и он погнал коня вперед, и тот, словно бы даже обидевшись, рванул с места и вынес юного князя на зеленую поляну. Тут близ разлапистого дерева толпились отроки, опустив мечи на землю, и с трепетом, которого нельзя не заметить в лицах хотя уже и огрубелых, но без той холодности, что так отличает бывалых воинов, слушали слепого сказителя. Будимир сидел на жесткой траве, чуть ссутулившись, и смотрел перед собой изжелта-темными невидящими глазами. У Владимира, когда он подъехал и внимательно вгляделся в сказителя, возникло ощущение, что тот прозревает неближнее, в глубине минувшего затерянное, и потому не мучается своей слепотой. Там он оставил лучшее, что было у него в жизни, и ничего другого ему не надо, как не надо видеть землю, по которой он ходит об руку с мальчиком — поводырем. И да воссияет и в их сердцах!
Старый певец держал в руках гусли и перебирал тонкими подрагивающими пальцами слабо и влажно поблескивающие струны. Но делал это нечасто, а лишь в те поры, когда голос, поднявшись высоко, так высоко, что было странно, как еще не оборвался и продолжает колебать устоялый душный воздух, точно бы зависал на этой высоте, замерев. Сказитель дотрагивался до струн и совсем не звонкая и пронзительная, но какая-то приглушенная, словно бы робеющая чего-то мелодия поднималась вослед голосу старого певца и… настигала, и уже не казалась слабой и стесненной, скорее, мягкой и все про свое назначение понимающей. Владимиру она чудилась живой, благость вокруг сеющей, эта благость отмечалась не только в воздухе, отчего он уже не был неколеблемо устоялый и душный, а во всем близ юного князя легшем, даже в малой желтой травинке, не умеющей вскинуться над землей, и в усохшем дубе с омертвелыми ветвями, хотя и тускло, и бледно.
Старый сказитель пел о давно минувших летах, и Владимир мысленно видел русское воинство, гордое и смелое, им все нипочем, они, разбросавшись, идут по широкой степи; это их непрестанное, упорное движение пуще чего другого страшит врага, и он, утратив прежний воинский дух, расступается, сминая собственные ряды. Страх, что поселился в нем, скоро делается не только ему принадлежащим, но передается иным племенам, и вот уже и окрестные земли оглашаются все в людях сминающим криком:
— Скифы идут!..
Теперь и не скажешь, откуда сие прозвание, но, видать, было в нем что-то грозное, противу чего нельзя устоять. И в русских племенах в ближнем времени привыкли к этому слову, пришедшему из чужедальних земель, но промеж своих родов прозывались по-прежнему, как повелось от дедов и прадедов.
Владимир, едва начав сознавать в земном мире бытующее, слышал, как в прежние леты жили русские племена. И слышал не только от волхвов, что захаживали в княжьи терема, а и от старых воинов. От гридей [3]. Но в отличие от сверстников и ближних к нему людей, а у них после таких сказаний в глазах как бы зажигалось, и можно было догадаться, что они воображают себя в давнем времени, и гордятся собою, и любуются, Владимир не испытывал возбуждающего чувства, внешне ничего в нем не менялось, да и в душе не происходило особенной перемены. И это оттого, что он воспринимал услышанное спокойно, точно бы знал, что минувшее останется при нем, куда бы ни повернула судьба, которая есть нечто