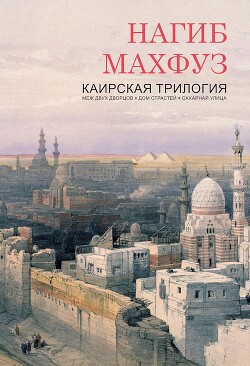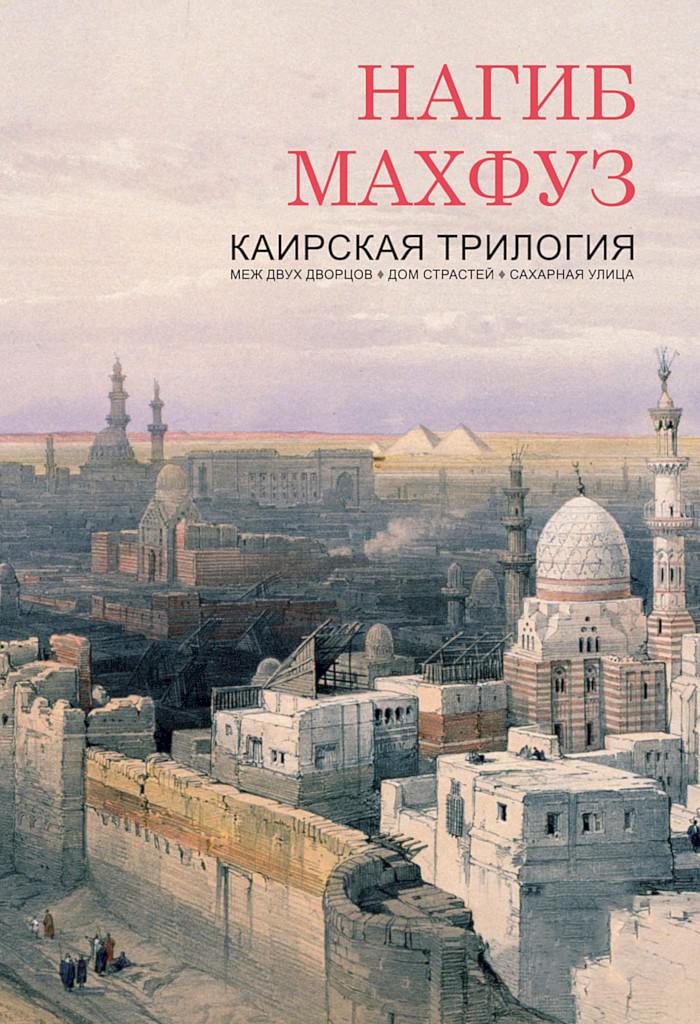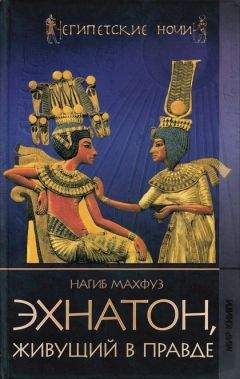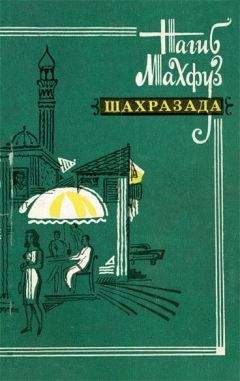— Ты помыл руки?
И если тот отвечал утвердительно, то приказным тоном говорил ему:
— Покажи-ка мне их.
Мальчик протягивал ладони, глотая слюну в испуге, а отец, вместо того, чтобы похвалить его за опрятность, угрожающе говорил:
— Если ты хоть один раз забудешь помыть руки перед едой, я их вырву и избавлю тебя от них.
Или спрашивал у Фахми:
— А этот собачий сын учит свои уроки, или нет?
Фахми точно знал, кого он имел в виду под «собачьим сыном»: этим их отец имел в виду Камаля, и отвечал, что тот хорошо учит свои уроки. По правде говоря, смышлёность мальчика, которая вызывала гнев у его отца, не подводила его и в учёбе, на что указывали его успехи. Однако отец требовал от своих сыновей слепого подчинения, чего мальчик был не в состоянии переносить. Он больше любил играть, чем есть, и потому отец комментировал ответ Фахми с негодованием:
— Вежливость предпочтительнее знаний, — затем поворачивался к Камалю и резко продолжал. — Ты слышишь, собачий сын?
Пришла мать с большим подносом еды и поставила его на расстеленную скатерть, а потом отошла к стене комнаты, где стоял столик, и поставила на него кувшин. Сама же встала, готовая отозваться на любой сигнал. Посредине медного блестящего подноса стояло большое белое блюдо, полное варёных бобов с маслом и яйцами, а в стороне от него стопкой были разложены горячие лепёшки. По другую сторону лежали уложенные в ряд маленькие тарелочки с сыром, маринованным лимоном и сладким перцем. Был здесь и стручковый перец, и соль с чёрным перцем. Аппетитная еда возбуждала аппетит в животах братьев, однако они хранили неподвижность, не показывая своего ликующего вида, словно они и палец о палец не ударят, пока отец семейства не протянет руку к лепёшке. Он брал лепёшку, разделял её пополам, бормоча:
— Ешьте!
И они протягивали руки в порядке старшинства: Ясин, Фахми, затем Камаль, и приступали к еде, соблюдая приличия и скромность.
И хотя отец жадно, помногу и в спешке поглощал пищу, его челюсти были словно часть резца, что быстро и безостановочно работает. Он загребал одним большим куском лепёшки пищу самых разнообразных оттенков — бобы, яйца, сыр, маринованный перец и лимон, — а затем начинал всё это сильно и быстро размалывать зубами; пальцы же его готовили уже следующий кусок. Сыновья ели медленно, терпеливо, несмотря на выдержку, вынуждавшую их ждать, и не соответствовавшую их горячей натуре. Ни от одного их них не было скрыто и то, что иногда он наблюдал за ними или грозно посматривал, а если и проявлял небрежность или слабость, и забывался, то игнорировал, следовательно, и осмотрительность, и приличия. Камаль испытывал даже большую тревогу, чем его братья, ибо сильнее их боялся отца. И если его братьям чаще доставались от него окрики и попрёки, то ему — пинки ногами и кулачные удары, и потому он ел свой завтрак с настороженностью, подглядывая время от времени на остатки еды, которой очень скоро становилось всё меньше и меньше. И всякий раз, как её становилось меньше, он испытывал всё большее волнение и с нетерпением ждал, пока отец издаст звук, свидетельствовавший о том, что он закончил есть, и для него освободится место, чтобы он мог набить себе живот. Несмотря на скорость отца, с которой тот поглощал еду, и большого куска, которым он жадно загребал остальное, Камаль знал по опыту — самая тяжёлая и неприятная угроза для еды, а следовательно, и для него самого, исходила со стороны его братьев, ибо отец ел быстро и также быстро наедался. Братья же начинали настоящий бой сразу после того, как отец отходил от стола. Они не отходили от него, пока на тарелках не оставалось ничего съедобного. И потому, как только отец поднимался и покидал комнату, они засучивали рукава и кидались на тарелки как безумные, пуская в ход обе руки — одну руку для большой тарелки, и одну — для маленьких тарелок. Его же усилия казались малоэффективными по сравнению с той активностью, что исходила от братьев, и потому он прибегал к хитрости, которая выручала его всякий раз, как благополучие находилось под угрозой в подобных случаях. Хитрость заключалась в том, что он нарочно чихал на тарелку, и братья отходили назад и смотрели на него вне себя от гнева, затем покидали обеденный стол, заливаясь смехом. Для него же воплощался в жизнь утренний сон — обнаружить, что он за столом один-единственный.
Отец вернулся к себе в комнату, помыв руки, а Амина догнала его со стаканом в руках — в нём было три сырых яйца, смешанных с небольшим количеством молока, и подала его ему. Он проглотил их, а затем присел отхлебнуть утреннего кофе и этого жирного питья — окончание его завтрака — то была «рекомендация», одна из тех, которых он всегда придерживался после еды или во время неё, также как и рыбий жир, засахаренные грецкие орехи, миндаль и фундук — забота о здоровье его тучного тела и компенсация за то, что тратилось им на свои капризы — он поглощал мясо и всё то, что известно было своей жирностью, пока не стал считать диетическую и обычную пищу «забавой» да «потерей времени», не подобающей таким как он. Гашиш ему порекомендовали в качестве вызывающего аппетит средства — наряду с другими его полезными качествами, — и он попробовал его, однако не смог привыкнуть к нему и бросил без всякого сожаления, ибо из-за него стал чаще впадать в оцепенение, у него усилилась глухота, и он насыщался тишиной, испытывая склонность к молчанию, и давая понять, что хочет побыть один, даже если находился среди лучших своих друзей. Боялся выставить себя чёрствым по натуре: с юных лет он полюбил веселье, возбуждение от хмеля, удовольствие от смешения всего этого с шутками и смехом. А чтобы не утратить свои необходимые преимущества как одного из выдающихся поклонников веселья, заменил гашиш на один из дорогих видов другого наркотика в смеси с опиумом, продаваемого известным Мухаммадом Аль-Аджами — продавцом кускуса на выходе из Ас-Салихийи, рядом с лавками золотых дел мастеров. Он готовил его преимущественно для избранных своих клиентов — торговцев и знати. Господин Ахмад не был заядлым наркоманом, однако время от времени заходил к нему — всякий раз, как на него нападал новый каприз, и особенно, если у него появлялась любовница — много знавшая о мужчинах и об их силе женщина.
Господин закончил пить свой кофе, поднялся и подошёл к зеркалу, затем по отдельности надел одежду, которую Амина подавала ему. Кинул внимательный взгляд на своё красивое лицо, причесал чёрные волосы, уложив их по обе стороны, затем разровнял усы и закрутил кончики, пристально всмотрелся в отражение своего лица и тихонько склонил его направо, чтобы поглядеть на левую сторону, а потом налево, чтобы увидеть его справа, пока не уверился, что всё в порядке. Протянул жене руку, и она подала ему пузырёк с одеколоном, который налили ему в парикмахерской двух Хусейнов, умылся и побрызгал одеколоном свой кафтан на груди и носовой платок, затем надел на голову феску, взял трость и вышел из комнаты, распространяя благоухание и впереди, и позади себя. Всем домочадцам был знаком этот аромат, выпаренный из различных цветов, и если кто-либо из них вдыхал его, то перед глазами его возникал господин Ахмад с его степенным и решительным видом, и вместе с любовью к нему в сердцах появлялись благоговение и страх. Но в такой утренний час этот запах символизировал уход господина, и все с нескрываемым и невинным облегчением вдыхали его, как вздыхает от облегчения узник, заслышав лязг цепей, что снимают с его рук и ног. И любому было известно, что он вернёт себе свою свободу разговаривать, смеяться, петь и ходить, пусть и не на долго, зато без всякой опасности.
Ясин и Фахми закончили одеваться, а Камаль побежал в комнату после выхода отца из дома, чтобы удовлетворить своё желание — сымитировать его движения, за которыми он украдкой подглядывал в щёлку полуоткрытой двери. Он встал перед зеркалом, внимательно и спокойно глядя на своё лицо, и сказал, обращаясь к матери повелительным тоном, сгущая интонацию в голосе:
— Пузырёк с одеколоном, Амина.