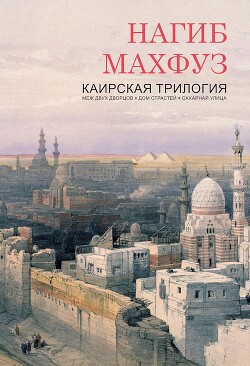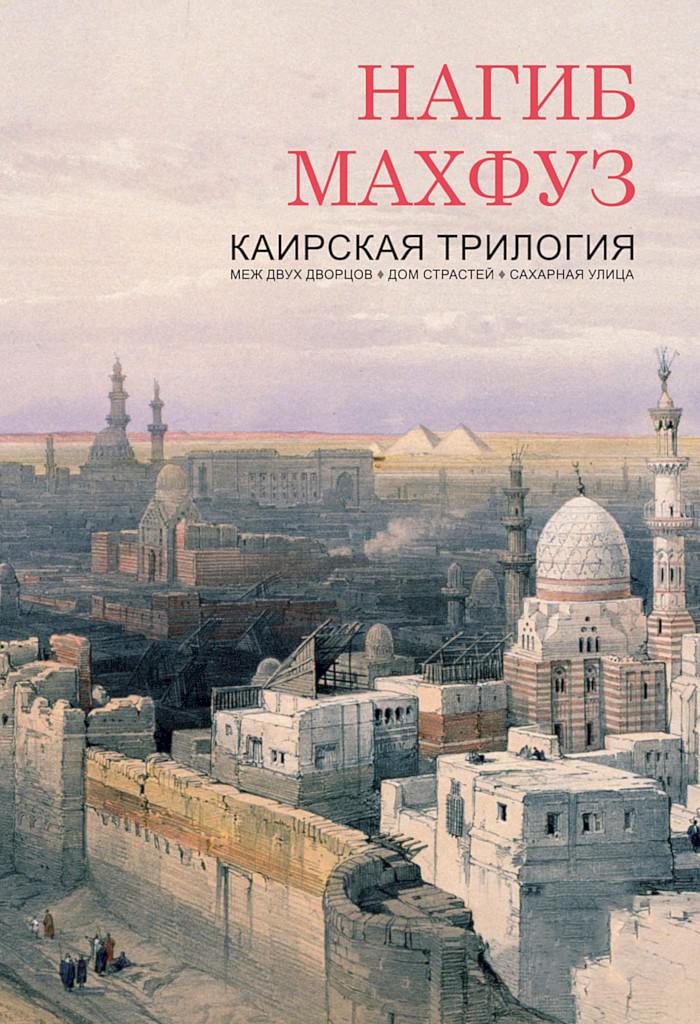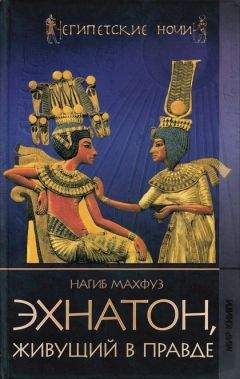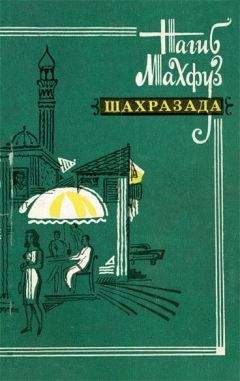А мать, которая уже привыкла к этой ссоре, заняла своё место и сказала, прося их:
— Прекратите, ради Бога, сядьте и поедим лепёшек спокойно.
Они подошли к столу и сели. Хадиджа сказала:
— Ты, мамочка, не годишься для воспитания кого бы то ни было…
Мать спокойно пробормотала:
— Да простит тебя Аллах. Я отдам свою задачу по воспитанию тебе, чтоб только ты о себе не позабыла… — затем протянула руку к тарелкам. — Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного…
Хадидже было двадцать лет, и она была старше братьев, за исключением Ясина — своего брата по отцу — которому был двадцать один год, и была она сильной, полной — благодаря заслугам Умм Ханафи, — и слегка низковатой. Что до лица её, то она заимствовала из черт своих родителей гармонию, что в расчёт не шла: от матери унаследовала маленькие красивые глазки, а от отца — его большой нос, или скорее, его лицо в миниатюре, но не настолько, чтобы это было простительно, и как бы этот нос ни шёл её отцу, сколько бы заметного величия ни придавал ему, на лице дочери он играл совсем другую роль.
Аише же было шестнадцать: изумительно красивое лицо, изящная фигура, и хоть это и считалось в их семейном окружении недостатком, исправление которого ложилось на Умм Ханафи, лицо — круглое, как полная луна, кожа — белая, с насыщенным румянцем, а голубые глаза отца прекрасно сочетались с маленьким носиком матери и золотистыми волосами, — это доказывало закон наследования и выделяло одну её среди всех потомков бабки по отцу. Естественно, что Хадиджа понимала, насколько она отличается от своей сестры. Ни её превосходное искусство ведения домашнего хозяйства и вышивания, ни её постоянная активность, неутомимая и не знавшая устали, не приносили ей никакой пользы, и часто она обнаруживала в себе зависть к красоте сестры, которую и не пыталась скрывать. Однако к счастью, эта естественная зависть не доставляла глубоких переживаний её душе, и ей было достаточно остудить свою горячность какой-нибудь колкостью или остротой. Более того, несмотря на свою проблему от природы, эта девушка по натуре была очень доброй и нежной к членам семьи, что, однако, не освобождало их от её горького сарказма. Зависть находила на неё временами — то надолго, то нет, но она не отступала от своего врождённого свойства ни в сторону презрения, ни ненависти, и хоть и продолжала острить, для её семьи это сводилось к шутке. Ей было свойственно, помимо того, в первую очередь, порицать соседей и знакомых; глаза её видели в людях лишь их недостатки, словно стрелка компаса, извечно направленная к полюсу. Если же недостатки исчезали, то она пускалась на все ухищрения, чтобы обнаружить их и преувеличить, а затем начинала давать своим жертвам описания, соответствующие их недостаткам, и в семейной обстановке чуть ли не одерживала над ними верх. Эта вот — вдова покойного Шауката, одна из старейших подруг её матери, которую она называла «Пулемётом» за то, что та брызгала слюной во время разговора. А та — госпожа Умм Мариам, их соседка из смежного дома; она звала её «Ради Бога, милостивые господа», за то, что она иногда занимала у них какую-нибудь домашнюю утварь. А безобразного шейха-учителя начальной школы с улицы Байн аль-Касрайн — «злом, что Он сотворил» [14], из-за того, что он часто повторял этот айат, когда читал всю суру в силу своих обязанностей. Торговца варёными бобами звала «Плешивым» из-за его плеши, а молочника — «Одноглазым» из-за его слабого зрения. Уменьшительные имена присвоила она и собственным домочадцам; так, мать была «Муэдзином» за то, что та рано поднималась [15], Фахми — «Прикроватным шестом» за его худобу, Аишу — «Тростинкой» по той же самой причине, а Ясина — «Бомбой» за его тучность и изысканность.
Её острый язычок работал не только ради издевательства, но по правде говоря, слова её не были лишены жестокости к людям, за исключением членов её семьи, и таким образом, критичность её в отношении других отличалась суровостью и отказом от снисхождения и прощения. В характере её преобладало безразличие к страданиям, что охватывали людей день за днём. В семье и доме эта её жестокость проявлялась по отношению к Умм Ханафи — ни к кому она так не относилась, как к ней, даже к домашним животным, вроде кошек, которые получали от Аиши неописуемую ласку. Её отношение к Умм Ханафи было предметом конфликта между ней и матерью: мать относилась к служанке как к члену собственной семьи, как к равному, ибо она считала других людей ангелами, и даже не понимала, как можно плохо думать о других. Хадиджа же настойчиво продолжала дурно отзываться об этой женщине, что соответствовало её натуре, которая была настроена плохо вообще ко всем, и не скрывала своих опасений по поводу того, что Умм Ханафи спала неподалёку от кладовки. Она говорила матери: «Откуда у неё эта чрезмерная полнота?! Все мы следуем её рекомендациям и не толстеем так же, как она. Это всё масло и мёд, от которых её так разносит, пока мы спим».
Однако мать заступалась за Умм Ханафи всем, чем только могла, и вот когда ей надоело упорство дочери, она сказала: «Ну и пусть ест, что хочет, всякого добра полно, желудок её не беспредельный, и мы в любом случае голодать не будем». Её не удивили эти слова матери, и она принялась каждое утро проверять бидоны с маслом и кувшины с мёдом, а Умм Ханафи смотрела на это с улыбкой, так как любила всю эту семью, а также в знак уважения к своей милой хозяйке. В противоположность этому девушка была нежна ко всем членам собственной семьи, и не могла успокоиться, если с кем-либо из них случалось какое-нибудь недомогание, а когда Камаль заболел корью, она ни за что не хотела отходить от его постели; даже была не в состоянии нанести малейшее зло Аише. Ни у кого не было такого же холодного и такого же нежного сердца, как у неё.
Когда она заняла своё место за накрытым столом, то сделала вид, что забыла про разгоревшийся у них с Аишей спор, и с аппетитом, о котором в семье слагали поговорки, принялась за бобы и яйца. Помимо питательной пользы у еды, что была перед ними, к неё была ещё и эстетическая цель — то было её естественное свойство — поддержание полноты. Они кушали неторопливо и внимательно, усердно пережёвывая и измельчая еду зубами, и если даже они и наедались, то ели против своих сил и просили добавки, пока чуть ли не лопались. Мать заканчивала есть быстрее дочерей, за ней следовала Аиша, а Хадиджа оставалась в одиночестве с остатками еды на столе, и не вставала из-за него, пока все тарелки не были вылизаны. Худощавость Аиши совершенно не соответствовала тому усердию, с которым она кушала, и всё из-за того, что она не поддавалась чарам пилюль, что и становилось причиной подтрунивания над ней Хадиджи. Та говорила, что из-за своих злых козней она стала плохой почвой для лечебных семян, которые в неё кидали, а также то, что лучше бы та объясняла причину своей худобы слабостью веры:
— Мы все, за исключением тебя, постимся в Рамадан, ты же незаметно прокрадываешься в кладовку, словно мышка, и наполняешь своё пузо грецкими орехами, миндалём, фундуком, а затем разговляешься вместе с нами, да так, что все постящиеся тебе только завидуют. Однако Аллах тебя не благословит.
Был один из тех редких часов завтрака, когда все они остались в доме одни, и это было самое подходящее время для раскрытия тайн и всего, что лежало у них на душе, особенно о таких делах, которые обычно призывала скрывать излишняя стыдливость — этим отличались их домашние посиделки, где присутствовали оба пола. Хадиджа, несмотря на всю свою увлечённость едой, говорила тихим голосом, полностью отличавшимся от того крика, который был слышен некоторое время назад:
— Мамочка… Я видела один странный сон…
Мать, прежде чем успела проглотить свой кусок, с большим уважением к напуганной дочери сказала:
— Сон в руку, дочка, Иншалла.
Хадиджа с удвоенной озабоченностью сказала:
— Я видела, что будто бы иду по стене террасы, может быть, то была терраса нашего дома, а может, и какого-то другого дома, и тут вдруг какой-то незнакомый человек толкает меня, и я с криком падаю.