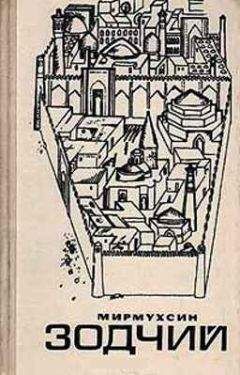«Совсем так, — подумалось ему, — выгоняют из дома корову, убедившись, что она яловая, и бедняжка, помыкавшись несколько дней, пытается опять проникнуть под родимый кров, но ее снова выгоняют, и так повторяется несколько раз, пока изгнанница не присоединится к стаду бродячих коров».
А когда дошел до Али-водоноса слух, что к изгнанию Наджмеддина Бухари причастен и коварный Чалаби и что именно из-за него покинул Герат старый грузин Джорджи, а также и гончары, он, целыми днями бродя по базарам, во всеуслышание выкрикивал:
— Слушайте все! Самых достойных людей изгоняют из Хорасана, нельзя больше терпеть тиранию господ и знати!
Вскоре после этого скончалась жена водоноса Али, ион решил тоже покинуть Герат и вернуться в Сабзавар. Но стыдно ему было показаться в таком виде перед своими родичами и знакомыми. Вот тогда-то и пришла ему в голову мысль побеседовать с устадом Кавамом, который, по слухам, был близким другом уехавшего зодчего. И он пошел к устаду Каваму. Хвала аллаху, достойный сей муж сразу догадался, как мучительно трудно было водоносу Али произнести дорогое ему имя Наджмеддина Бухари, принял его дружески и расстелил перед ним дастархан. И в знак уважения к великодушному хозяину Али вскоре прислуживал на свадьбе его сына Худододбека. А когда кончилось многодневное пиршество, Али обратился к устаду Казаму с просьбой пристроить его к какому-нибудь каравану, направляющемуся в Бухару. И закончил свою просьбу обещанием молиться за устада Кавама до скончания века. Устад Кавам обещал навеет справки, асам все дивился, как этот человек, с его точки зрения низкого звания, успел всей душой прилепиться к зодчему Наджмеддину и по-стопному уважения, никто никогда не выказывал подобной привязанности.
И снова начал ходить на стройку медресе Али-мешкобчи, и снова поил студеной водой всех жаждущих. Но однажды повстречался ему Ахмад Чалаби и крикнул:
— Эй ты, дай напиться!
Но, отвернув от него лицо свое, Али сказал:
— Нет у меня воды.
— Как нету? Вон же у тебя полный бурдюк.
— Полный-то он полный, но эта вода из источника Чашмаи Хизр. Не про вас она.
— Дурень!
— Дело в том, что для вас, господин, я пожалел бы даже воды из лужи на коровьем базаре.
— Вон отсюда! — рявкнул Чалаби.
Ничего не ответил Али, только бросил на обидчика испепеляющий гневный взгляд.
В конце месяца рамазан в Герат должен был прибыть Амир Аль-Джаваир. Правители надеялись, что пышная встреча именитого гостя и сопровождающие ее торжества отвлекут внимание народа, наполнят его сердце радостью. Но они жестоко просчитались. Казни, разбой, грабежи, изгнания и постоянные угрозы, безнаказанность сильных мира сего, вражда царевичей между собой уже давно ввергли народ в нищету, и было ему не до празднеств и торжеств. А тем временем Али-мешкобчи бродил по базарам и выкрикивал, как глашатай, что близится светопреставление, что все вельможи — лицемеры и предатели, что совесть и справедливость покидают людские сердца. А вернувшись вечером в свою жалкую хибарку, он первым делом брался за книгу «Чор дервиш». Хотя он в детстве не ходил в школу, научился читать сам. Но дороже самой книги были заложенные между страниц хрустящие листки бумаги, которые вручил ему зодчий и на которых он всю жизнь свою выписывал изречения мудрецов. В изречениях этих возвеличивались такие добродетели, как человеколюбие, учтивость и воспитанность, честный труд, мужество, совестливость, справедливость, живость ума, и бичевались такие пороки, как леность, лихоимство, злоба, лживость, ревность, клевета, наушничество, спесь и предательство. И понятно, люди, кормившиеся на царском дворе, негодо-поведовавшего эти истины. Однажды два есаула под стерегли у источника Али-мешкобчи, который по-прежнему ходил по базарам и клеймил жестокие времена, бессердечность вельмож, лихоимство и жестокосердие, и исколотили его палками, приговаривая:
— Как смел ты, ничтожный чужак, замутить наш источник!
А на прощание еще раскровенили ему пятки, чтобы не мог он больше ходить.
Ближе к вечеру мешкобчи, лежавшего без чувств на земле, нашли какие-то неизвестные люди и отнесли а его хибарку. Утром, придя в себя, он обнаружил, что кто-то перевязал его раны, а рядом поставили чашку воды и положили лепешку, Кто это мог сделать? Ведь он, Али, здесь чужак, никому не нужный и одинокий человек, Изгнан зодчий, тот, кто понимал его душу, пекся о нем! Кто же это вырвал его из рук стражей — этих хищных, злобных волков, кто принес его в хибарку и кто уложил? Ведь во всем городе у него не осталось друзей. Али терзала боль, он не в силах был поднять голову, но вдруг после полудня дверь хибарки открылась и вошли двое юношей, неся небольшой сверточек. Поклонившись хозяину, они осторожно опустились рядом с ним. Один из них, двадцатилетний красавец, по-видимому ученик медресе, щегольски повязывал голову чалмой, у второго же, крупного, плотного юноши, только-только пробивались усики. Муллавачча — ученик медресе — полушепотом сообщил, что вчера вечером они нашли Али у родника и вдвоем дотащили до дому. Страдая от жестоких побоев Али все же не сдавался, и хотя каждое его слово прерывалось стоном, он заявил юношам, что будь у него священный меч святого Хазрата, он изничтожил бы все это мерзкое семя, извел бы под корень всех вельмож, царевичей, не пощадил бы даже самого государя.
— Посмотрите, что сделали со мной эти шакалы, неужто они бога не боятся? — закончил он свою пламенную тираду, тяжело дыша от нового приступа боли.
— Нет, не боятся они бога, — полушепотом сказал юный муллавачча. — Тимуридам вскружила голову власть, для них мы, да что мы, все люди на свете — ничтожные мурашки. И мы пострадали, уважаемый.
А кто вы такие будете?
— Мы друзья Низамеддина и Ахмада Лура.
— А, вот оно в чем дело, — протянул Али, — Настоящим бойцом был Низамеддин. Я хорошо знал его. Значит, всех ваших друзей казнили, а вы остались только вдвоем?
— Нет, нас очень много, — ответил муллавачча. — Всех нас не казнишь.
— А, вот в чем дело, — снова протянул Али.
— Нас привела к вам жалость, желание оказать помощь такому честному бедняку, как вы, и еще мы хотели вам вот что сказать — один в поле не воин, не нужно вам надрываться и подвергать свою жизнь опасности, действуя в одиночку на свой страх и риск. Лучше присоединяйтесь к нам. Если уж плакать, то вместе, если бить врага, то тоже вместе.
— А как вас зовут, славные юноши? — осведомился Али.
— Я известен под кличкой Талаба, что значит ученик, — ответил красавец, — а друга моего прозвали Интикомом — Мстителем. Вот выздоровеете и приходите к нам в медресе Алия.
Юноши поднялись и стали прощаться.
— Разумеется, приду, — сказал Али и дружелюбно взглянул на двух юношей, назвавших ему не имена свои, а клички.
Как благодарен он был за их теплоту, за все сделанное ему добро!
А во вторник в махалле Дарул Хуфо появились двое каких-то незнакомцев и постучались в калитку бывшего дома зодчего. Калитку им открыл человек с мясистым лицом и бросил на пришельцев холодный, недружелюбный взгляд, и чувствовалось, ему хочется дать им понять нарочитой медлительностью, что он не простой человек, а лицо значительное, должностное.
— Здравствуйте! — одновременно сказали незнакомцы. У нас есть дело до господина зодчего, будь те любезны, позовите его.
— Уж не суд ли помещался здесь раньше? — насмешливо осведомился новый хозяин дома.
Незнакомцы молча переглянулись.
Видать, не зря прогнали его из столицы. Я тут кое-что узнал и про его отца.
— Просим прощения, господин, очевидно, мы ошиблись.
Калитка с треском захлопнулась.
А двое незнакомцев, оставшись на пустынной улице, снова удивленно переглянулись.
— Сон это или явь?
— Видать, явь, — твердо проговорил один из пришельцев.
Это был человек средних лет, с реденькой бородкой, зато его собеседник мог по праву гордиться роскошными черными усами. Первым был ремесленник-сапожник по прозвищу Фармон-каль, что означает «Лысый повелитель». Еще в детстве он переболел паршой, долго ходил в гнойниках и болячках и исцелился только в зрелом возрасте. Поэтому он носил тюбетейку, хаджи, закрывавшую до ушей его безволосую голову. Малый он был простодушный, любил посмеяться и пошутить. Зачастую, сидя в компании друзей, он сам первый, обнажив голову, начинал отпускать остроты по собственному адресу, а поскольку человек он был речистый, то друзья покатывались с хохоту. Он шил на всю семью зодчего ичиги, кавуши и сапоги. Иногда сам зодчий заглядывал к нему в лавку на Кандахарском базаре, сядет, бывало, и заведет с шутником-сапожником долгую беседу.
Его приятель, по прозвищу Парфи-сутак, Недотепа, тот, что кичился своими роскошными усами, занимался выделкой кожи на дому и особенно славился выделкой сагри — дорогой зеленой кожи для кавушей, которую он и сбывал ремесленникам. Был он человек беспечный, на язык не боек. Фармон-каль и Парфи-недотепа дружили с раннего детства, оба были всей душой привязаны к зодчему и часто ходили просить у него совета. Узнав о казни Низамеддина, они поспешили проведать зодчего, старались утешить старика в таком его горе, но им и в голову прийти не могло, что такой уважаемый муж, как Наджмеддин Бухари, может быть изгнан из Герата. Обоих приятелей озадачили насмешливые слова тепе-решного хозяина дома зодчего, спросившего с насмешкой: «Уж не суд ли был здесь?»