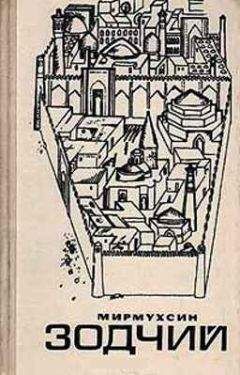— Хвала тебе, — ласково улыбнулся зодчий, — наконец-то ты заговорила здраво.
— Вы будете жить вечно, — снова воскликнула Масума-бека, — потому что вы никогда никому не пожелали худого.
Зодчий умолк, опустил глаза и глубоко задумался. Но тут заскрипели ворота караван-сарая, и на своей буланой кобыле въехал Ходжа-табиб. Со стороны могло показаться, что кобыла жеребая, потому что два огромных хурджуна свисали с обоих ее боков, два хурджуна, до краев набитые лекарственными травами и талибской снастью. Ловко соскочив с лошади, табиб подошел к зодчему и спросил, как ему спалось, пил ли он на ночь кислое молоко. Оказалось, что все предписания табиба исполнены неукоснительно точно. Табиб заметил, что зодчий и Харунбек тайком поглядывают на его кобылу.
— Хоть и невзрачна она с виду, — сказал табиб, словно отвечая на не заданный ему вопрос, — а выносливая на диво. Знает все нужные мне тропки, все дороги. Один только водится за ней грех — никак не научится доставать лекарство из хурджуна и раздавать его больным, а во всем прочем ну чистое совершенство.
Слушая этого душевного старика, так любовно расхваливающего свою лошадь, все невольно заулыбались, и скоро во дворе караван-сарая зазвучал веселый смех.
Глава XXX
Как становятся рабом
Месяц шавваль[36]— самая знойная и жаркая пора лета. И нынче день, как всегда, выдался горячий, так и обжигает. Три арбы, въехавшие из Талимарджана, остановились передохнуть в караван-сарае Дашта. Раскален добела заброшенный двор. Зодчий, уже почти оправившийся от злого недуга, ни в чем не нарушал предписаний Ходжи-табиба. И сейчас, как всегда по утрам, не спеша ступая, подошел қ колодцу в середине двора. Человека, поившего лошадей, зодчий попросил напоить и принадлежавшую табибу кобылу, которая, почуяв воду, беспокойно ржала, не стояла на месте. Человек, вытягивавший воду из колодца, поставил ведро на землю, выпрямился и уставился на зодчего. И стоял так, не спуская с зодчего растерянного взгляда. Его худое, желтое, как янтарь, лицо было лишено растительности. По тому, как он, мрачно нахмурив лоб, смотрел на зодчего, можно было подумать, что просьба напоить коня для него бог весть какой труд, и зодчий поспешил извиниться.
— Я не заметил, что вы заняты, — сказал он, — простите, пожалуйста.
Желтолицый не ответил. Он поднял ведро и потащил его к смиренно ждавшему в сторонке коню. Зодчий решил, что незнакомец не желает разговаривать с посторонним, и уже повернулся было, чтобы уйти, как вдруг желтолицый окликнул его:
— Эй, старик, постой!
Зодчий обернулся.
— Да постой ты, сейчас напою твою лошадь.
— Благодарю. Да будет вам счастье в этой жизни!
— Ты купец? Бек? Едешь из Самарканда в Балх или из Балха в Самарканд?
— Я зодчий. Строю дворцы, мечети, медресе… А сейчас направляюсь в Бухару…
— Чего ты в Бухару собрался свои медресе строить? Строил бы здесь.
Зодчий промолчал. «Наверное, юродивый», — подумал он. И тут же его странный собеседник забормотал что-то себе под нос, но что именно, зодчий так и не разобрал. Да, зодчему попался малоприятный собеседник, человек явно грубый, неприветливый. Да к тому же он все время как-то дико таращился на зодчего. Зодчего даже страх пробрал от этого взгляда.
— Вы правы, и тут можно строить, — вежливо сказал он.
— Для кого? Уж не для царевича ли?
— Да нет, для людей, для народа.
— Нет, ты строй для царевича, получишь награду!
Есть у тебя жена или дочь? Так построй для царевича дворец и введи туда свою жену и дочь и своими руками положи их на его ложе. Пусть наслаждается!
— Эй, эй, уйми свой язык! — крикнул табиб, который вышел из своей комнатки и услышал оскорбительные речи желтолицего. — Что это с тобой? Этот достойный человек господин Наджмеддин Бухари! Он-то тебе зла не причинил. Он сам немало натерпелся от царевичей и мыкается по свету. Несправедливо ты говоришь, плохо ты говоришь. Еще одно слово, и я знать тебя не хочу. Немедленно извинись.
— Видать, этот человек хлебнул горя, — обратился зодчий к табибу. — Уверен, что он говорил не подумавши. Я на него не в обиде.
— Продайте мне еще хоть немножко опиума, табиб, — уныло заявил желтолицый. — Лекарство уже кончилось, а все нутро у меня изболелось, как ножами его режет.
— Пойдем со мной! — и табиб решительно зашагал к своей комнатке. Пригласил он также и зодчего.
Очутившись в своей комнатке, хозяин усадил зодчего на почетное место, а потом сам и желтолицый расположились с ним рядом. Табиб вытащил мешочек с лекарствами, вынул оттуда какую-то коробочку, нашарил что-то размером с изюминку и протянул желтолицему.
— Только не забудь разделить на три части, — посоветовал табиб.
— Будет исполнено, не забуду, — отозвался желтолицый, и губы его сморщила улыбка. Взяв с низенького столика пиалу, он плеснул туда чуточку горячей воды, отколупнул ногтем треть драгоценной изюминки и, размяв ее в пальцах, бросил в воду. Затем единым духом проглотил зелье.
— Зовут его Таджи, ему всего двадцать шесть, — снизив голос до полушепота, проговорил табиб. — Родом он из Шахрисябза, сын домлы. Его сломило тяжкое горе, и теперь он бродит по земле, вот и забрел в наши края.
Плохо ему сейчас, ой как плохо, редко когда бывает так худо человеку.
— Вон оно что… — удивленно протянул зодчий. А он-то считал, что желтолицему все шестьдесят. И болью сжалось сердце зодчего — подумать только, самый расцвет молодости, жить бы ему да жить, а вот до срока превратился в старика.
Табиб продолжал свой невеселый рассказ:
— В один прекрасный день царевич Ибрагим Султан повелел схватить этого человека, привести к себе во дворец и нанес ему там неслыханное оскорбление — надругался над его честью. На всю жизнь заклеймил страшным клеймом беды. И не смеет бедняга вернуться в родные края — в Шахрисябз, так и кружит без толку по степи. Я время от времени даю ему опиум, чтобы продлить его жизнь, но сам порой спрашиваю себя: да стоит ли продлевать такую жизнь? После надругательств царевича бедняга окончательно лишился воли. Теперь пристроился в услужение к хозяину караван-сарая.
А сам Таджи тем временем сидел на корточках, низко опустив голову. Порция зелья смягчила его гнев и болезненную раздражительность, и хотя ему по-прежнему было совестно взглянуть в лицо зодчего, он то и дело подымал благодарный взгляд на табиба. Видно, опиум подействовал на него благотворно — прекратилась мучительная ломота во всех суставах.
— Случилось это лет пять назад, — продолжал вполголоса табиб. — Таджи открыл на городском базаре лавочку, деньги дал ему отец, дела пошли бойко, и он, как говорится, прочно стал на ноги. Завелись у него и дружки-приятели. По пятницам собирались они и устраивали пирушки. Дерзок был на язык молодой Таджи и при случае не щадил никого. Да и собой был он хорош на диво, сложен как богатырь и главным своим украшением считал черные усы. И не жалел он ничего для своих друзей — а все они были народ ловкий и бойкий. Очень скоро прославился он среди торгового люда, и даже кличку ему дали «Таджиддин-байвачча»[37]. А там и влюбился он в сестру одного своего дружка, сыграл пышную свадьбу и счастливо зажил с молодой красавицей женой. И вот однажды в лавку Таджи ворвались нукеры и потащили его к городскому казию — судье. Когда его подвели, судья начал:
— Признайся, что ты распространял грязные слухи об их высочестве царевиче Ибрагиме Султане! Не говорил ли ты во всеуслышание, что царевич распутник и удовлетворяет свою страсть с безбородными юнцами?
Таджи отрицал все. Тогда казий назвал кое-кого из дружков Таджи и пригрозил, что вызовет их в суд в качестве свидетелей и устроит очную ставку. Таджи испугался, что и впрямь сюда могут привести его друзей, и сказал, что, мол, такие слова вырвались у него нечаянно и он раскаивается в содеянном. Судейский записал его признание и заставил поклясться на коране, что он ни под каким видом не отречется от своего показания. А затем нукеры увели его и заперли в сырое подземелье. Прошло несколько дней. И вдруг Таджи привели в гарем царевича, усадили на стул на застекленной веранде и крепко прикрутили к стулу руки и ноги. Заткнули ему рот платком и приказали смотреть во внутренние покои, добавив, что, когда он хорошенько насмотрится па то, что там будет происходить, ему дадут свободу. А через несколько минут в покои вошла старуха, ведя за руку жену Таджи, одетую в роскошное шелковое платье. Старуха усадила жену Таджи на ложе и удалилась. А еще через минуту, в меховой шапке с пером, в накинутом на плечи богато расшитом золотом халате, вошел царевич Ибрагим Султан. Проглотив залпом пиалу вина, он схватил жену Таджи и грубо овладел ею. Таджи глухо застонал, он старался порвать впившиеся ему в тело путы, но не мог ни шелохнуться, ни крикнуть. Свершив злодеяние, царевич подошел к Таджи, бессильно уронившему голову на грудь, и, презрительно щурясь, отчеканил: