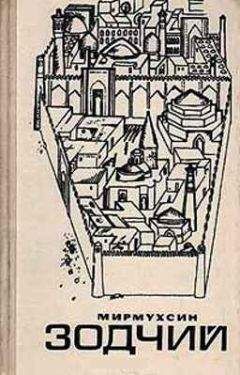— С сегодняшнего дня и ты и твоя жена будете моими рабами.
В тот же вечер Таджи жестоко избили и, дав ему снотворного зелья, охолостили. Несколько дней он пролежал в беспамятстве, а когда очнулся, ему приказали остаться в гареме царевича евнухом. Прошло несколько месяцев, и пожелтело его красивое румяное лицо, вылезли усы и борода. И за этот же срок царевич на глазах Таджи трижды опоганил его жену, и несчастная, превратившись из свободной женщины в безмолвную рабыню, лишила себя жизни, бросилась с крыши дворца. Ослепленный горем, Таджи не находил себе места и однажды, обманув бдительность стражей, убежал из гарема. И вот пый за одно неосторожно вырвавшееся слово, мыкается по свету несчастный Таджи, не смея вернуться в родные края. И думается ему, наверное: «Кем я был и кем стал». И живёт он в великом гневе, ненавидя все живое, отлученный от людей, и единственная отрада для его души — опиум.
Но тут Таджи обвел хмурым взглядом зодчего и табиба и зашагал ко внутреннему двору, бормоча себе под нос:
— Хозяин велел напоить лошадей, а эти проклятые скоты не желают пить, так и норовят укусить друг друга. Одна мерзость кругом. Уйду отсюда. Хозяин еще ни гроша не заплатил мне за работу. Мерзавец! Нет на свете правды. Пусть все пойдет прахом. Все… Все…
Зодчий и Ходжа-табиб переглянулись. Им было до боли жалко этого бедолагу.
Глава XXXI
Глубокое течение
Читатель, очевидно, помнит Али-водоноса, который как-то в студеный зимний вечер постучал у ворот зодчего Наджмеддина Бухари, и как тот приветливо встретил незнакомца, обогрел его, накормил, приодел, а главное, обратился к нему с теплыми, от души идущими словами. В знойную летнюю пору Али-мешкобчи, что значит водонос, бродил по базарам и поил людей студеной водой, за которой по утрам отправлялся к источнику Чашмаи Хизр. Каждое утро заглядывал этот человек, которого обласкал и приободрил Наджмеддин Бухари, и на стройку медресе. Первую чашу ледяной воды он неизменно подносил зодчему, а потом поил всех, кого мучила жажда, и скромно удалялся. Судьба забросила этого человека в Герат, где не было у него ни знакомых, ни тех, кто мог бы ему помочь. Было ему под сорок, сложения он был плотного, хотя и сильно похудел за последние годы бедствий, с загорелым лицом и зычным голосом. А ведь он, сын мастера — уста, знал лучшие дни, жил в холе и тепле, но после смерти отца не смог оставаться в родном городе и очутился в неприводоносом. Не сразу удалось ему стать на ноги. Первое время он ходил в одежде, которую ему давал зодчий, нередко просил у него денег взаймы. Но как раз зодчий был тем единственным человеком в Герате, с которым ему было легко, напоминал ему старый устад и обликом и речью его отца. Нередко он даже прислуживал в доме зодчего, стараясь хоть как-то отблагодарить своего благодетеля — человека, широкой души, привечавшего бездомных и бесприютных. Одно время он даже работал на стройке медресе, но потом, женившись на одной вдове и поселившись в ее хибарке, снова вернулся к своему прежнему занятию, считая, что это дело прибыльнее. А ведь поил он людей, подносил уставшему холодную воду и не просил ничего, довольствовался тем, что ему давали. Рано поутру отправлялся он к источнику Чашмаи Хизр, наполнял студеной водой два больших бурдюка — один относил домой зодчему, а с другим плелся в свою хибару и здесь разливал воду в медные кувшины, с которыми и бродил по улицам Герата. В первое время своего пребывания в чужом городе он нередко разделял трапезу с учениками зодчего, с наслаждением смаковал пищу, приготовленную умелыми руками Масума-бека, и всякий раз не забывал поблагодарить гостеприимных хозяев:
— Да будет долгой и благополучной жизнь устада Наджмеддина, щедрого, благожелательного человека, да будет мир и благоденствие в доме его.
Не сразу услышал Али-мешкобчи страшную весть о том, что сына зодчего, Низамеддина, бросили в крепость Ихтиёриддин, а услышав, сразу же бросился выразить отцу его свое сочувствие. Через несколько месяцев до него дошла весть о казни Низамеддина. Безутешный, ходил он по улицам, рыдал в голос, посыпал голову пеплом. Не раз, бывало, подойдет он к стенам крепости Ихтиёриддин и обратит к аллаху горячие мольбы, а то затешется в толпу рабочих, строивших медресе Мирзо, начнет плакать и твердить, что Низамеддин и погибшие с ним юноши были ни в чем не повинны. Но стенания его и муки не трогали никого, кроме семьи зодчего. Проведал о его поступках один из царских есаулов и как-то, встретив его на базаре, грозно закричал: потребные слова, я живо тебя усмирю, как хвачу плеткой по роже, все тридцать два зуба твои прочь.
Али-мешкобчи удалился, бормоча про себя:
— Только на это и способен ты, вшивый пес.
А еще через некоторое время дошел до него слух, что зодчий продал свой дом и покинул Герат. Рано поутру пошел он, как обычно, к Чашмаи Хизр, еле сдерживая слезы при мысли, что ему не удалось проститься с зодчим, и, набрав бурдюк кристально чистой воды, направился к дому Наджмеддина Бухари, постучался в калитку, уже успевшую стать ему дорогой по воспоминаниям. И думалось Али: вот сейчас выйдет кто-нибудь из учеников устада, а может, выглянет на стук и сама Бадия и, приветливо улыбаясь, со словами сердечной благодарности велит ему вылить воду в огромный кувшин, стоящий в углу кухни. Но вдруг его осенило: ведь раньше-то, когда здесь жил зодчий с семьей, калитка вечно была не на запоре, а теперь калитка оказалась подперта с той стороны тяжелым колом. Но вот загрохотала цепь, стукнула щеколда, и в полуоткрывшемся проеме калитки показалось чье-то лицо — угрюмое, злое.
— Тут прежде жил господин зодчий. Теперь вы сюда переехали?
— Я купил этот дом.
— Я Али-мешкобчи. Я жил вон там, в каморке вс внешнем дворе. Скучно мне стало, тоскливо, вот я и пришел. Без дела пришел, сами ноги меня сюда привели. Что за славный человек зодчий! Таких теперь не найти. Щедрый, всегда готов приютить бездомного странника.
— Если побежишь за ним, догонишь. Этот твой добряк не добрался еще до Бухары, — сказал хозяин, окинув пренебрежительным взглядом невзрачную фигуру Али. — Может, та каморка твоя?
— Упаси аллах, господин! Я человек бедный, ничего у меня нет. Тоска меня сюда пригнала.
— А еще что скажешь?
— Ничего.
Хозяин со стуком захлопнул калитку и ушел в дом.
— Ах, в какие жестокие времена живем мы, — вздохнул Али. — Неужто человек так может относиться к человеку? Дав напиться из своего бурдюка попавшимся навстречу мальчикам, он зашагал дальше. Пройдя Пули Малан, он уже приблизился к минаретам, но тут, еще издали заметив его, путь ему преградил юродивый Меджнун, — видно, его тоже мучила жажда.
— Дай воды, — потребовал он.
— На, пей! — Али наполнил деревянную чашку водой и протянул юродивому. — Пей, родной. Видно, я впрямь нет у меня в городе иного друга, кроме тебя.
— Дай еще, — сказал юродивый, жадно выпив всю воду до последней капли.
Али снова наполнил чашку. И эту чашку юродивый осушил одним духом.
— Налить еще?
— Хватит, — отрезал юродивый, распустив губы в блаженной улыбке. А затем, раскрыв ладони, он стал читать благодарственную молитву.
— Молись, молись, — сказал Али, — ты человек бедный, твоя молитва быстро дойдет до бога, пусть всевышний облегчит страдания зодчего — ведь он сейчас бредет по пустыне, и сердце его полно горечи, пусть примет аллах душу безвинно загубленного его сына Низамеддина.
И оба, закончив молитву, одновременно провели ладонями по лицу.
— Господин зодчий уехал, я сунулся было в дом его, но меня на порог не пустили, — объяснил Али юродивому, по-прежнему блаженно улыбающемуся.
— Ночью явился со своим войском Афрасиаб[38],—затянул нараспев юродивый, — я схватил свой священный меч Зульфикар, и началось великое побоище, ни один из огнепоклонников не уцелел. Нынче ночью Афрасиаб явится снова, и хочу дать вам добрый совет — будьте и вы тоже начеку! Ведь он, Афрасиаб, снес голову своему зятю. Явится он с бесчисленным воинством, но я их всех изничтожу.
Али-мешкобчи взглянул на юродивого и понял, что на того снова накатило. Распростившись со своим странным собеседником, Али направился в сторону Кандахарского базара. Его путь лежал опять через махаллю Дарул Хуфо, но она была уже не та, что прежде, когда тут жил зодчий, ничто в ней не привлекало взора. Зачем он снова явился сюда, зачем? Но, видно, влечет человека туда, где отдыхал он душой и сердцем, где его радушно привечали. Новый хозяин дома своим холодным тоном, пренебрежительным взглядом точно огрел его дубиной по голове, и он тогда ушел.
«Совсем так, — подумалось ему, — выгоняют из дома корову, убедившись, что она яловая, и бедняжка, помыкавшись несколько дней, пытается опять проникнуть под родимый кров, но ее снова выгоняют, и так повторяется несколько раз, пока изгнанница не присоединится к стаду бродячих коров».