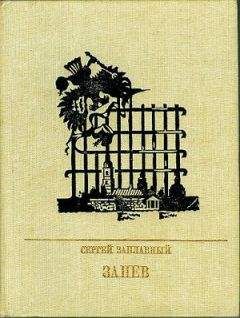— Да-а-а, — скорбно вымолвил один из шептунов. — Его хоть в сад посади, и сад от его злонравия привянет. Лихо лихом и кончается. Гневайся, грозным будь, но не кровавым! Одно слово — душегуб.
— Видать, его сам сатана пестовал, — поддакнул ему другой. — В которой посудине деготь побывает, и огнем его оттудова не выжгешь.
От таких слов у Митюши дыхание перехватило. Он рос в убеждении, что народ — тело, а царь — голова, и никто не вправе осуждать его, тем более после смерти. Как без Бога свет не стоит, так и без государя земля не правится. И вдруг находятся люди, готовые его имя грязью мазать.
«Не смейте!» — хотел крикнуть Митюша, но его опередил отец, тоже невольно услышавший пересуды приказчиков.
— Неладные речи неладно и слушать, — нагрянул он из сеней в житье к приказчикам. — Но коли на то дело пошло, хочу и от себя слово сказать. Не всяк злодей, кто часом лих. Иван Васильевич царство строил, а супротивные ему бояре со своими прихвостнями что? — Дьяволу престол, а себе рядом — сиятельные престольцы. Вот он на них и опалился. И поделом! Они ведь почище его кровопийствовали. За червя держали. Двоедушничали. Измены строили. Не сменив их, нельзя было вперед двигаться. Он и сменил, пусть и с душегубством немалым. Я с опричниной не дружил, но могу сказать, что она не с неба взялась. Александрова слобода — тоже. Плохо ли, хорошо ли, а Русь при Грозном в силу вошла, землями многими и городами уширилась, государством стала, Земские соборы и свой Судебник учинила. Этого не забудьте, когда в другой раз по углам в шепоты пуститесь.
— Возлюбивший злобу чтит ю паче благостыни, — опомнившись, постными голосами стали возражать ему приказчики. — Худом добра не весят. Лучше в обиде быть, чем в обидчиках. Забудь, что мы тут говорили, князь. Господь учит: замахнись да не ударь!
— Праведники нашлись… — подавил в себе раздражение отец. — Ладно, забуду… Правдой жить, точно огород городить: что днем отчизники нагородят, то скрытники и злобесники ночью норовят разметать. Да пока у них руки коротки… Ну а насчет дворца в слободе, что на Рождество Христово молния попортила, я так скажу: отстроен он еще лучше прежнего. С памятью о государе Иване Васильевиче то же будет: как разрушится, так и отстроится…
Через год отца не стало, но эти слова навсегда запали Пожарскому в душу. Они стерли ореол непогрешимости с обликов Иоанна Грозного и его преемника, блаженного Федора Иоанновича, а затем Бориса Годунова и Василия Шуйского, но помогли понять, что царь со всеми его человеческими достоинствами и недостатками — это прежде всего скрепа государства, хранитель веры и самостояния, а значит, верность ему — это верность отечеству. Шатаний тут быть никаких не может. Как Солнцу всех не угреть, так и царю на всех не угодить. Главное, чтобы это был радетель, а не самозванец, готовый бросить под ноги алчности наемников и своему честолюбию судьбу народа…
А потом разразилась Смута, и земля под Александровой слободой, как и повсюду, закачалась. Кто ее только ни топтал! Дольше всех гайдуки и пехота литовского гетмана Яна Сапеги. Дважды их выбивал из крепости князь Михайло Скопин-Шуйский. Ему помогал шведский барон Якоб Делагарди. Однако при седьмочисленных боярах слобода снова пала. Полторы тысячи посадников затворились тогда в перестроенной шатровой звоннице, но сапегинцы подожгли ее, обложив со всех сторон бревнами и хворостом. Не желая даться им в руки, бросилась вниз с колокольни дочь мельника со Сноповской плотины, Катюня Самоквасова. После этого случая ее отчим Поликарп Рябой собрал посадников и крестьян из окрестных сел Бельково, Каринское, Годуново, Отяево, Темкино, Шуйское, Недюревка да и стал побивать обидчиков стремительными налетами, а после влил свой отряд в нижегородское ополчение. Ныне Поликарп Рябой послан в Александрову слободу — готовить ночлеги для земской рати. Никто лучше него с этим не справится…
Былое так крепко переплелось с настоящим, что Пожарский забыл обо всем вокруг, расслабил вожжи, дал коню самому выбирать дорогу. Чем ближе становился кремль на холме, тем явственнее виделись потеки и проломы на его некогда белых стенах, тем больше резали глаза груды развалин и пожарищ на посаде у реки Серой и возле острожка, поставленного поодаль еще людьми Скопина-Шуйского.
«Это не тучи над Слободой повисли, — неожиданно подумалось Пожарскому. — Это тени прошлого здесь витают — тени замученных при царе Иоанне и тени павших в боях за родимую землю, тени изменников и завоевателей, нашедших здесь бесславный конец, и тени мирных жителей, ни в чем не повинных стариков и детей. Сколько слез в небесах накопилось — и представить трудно. Помоги им, Господи, дождем на землю пролиться, неприкаянные души облегчить, а прикаянные умиротворить».
Словно услышав его, где-то далеко, будто ворочая небесные валуны, предупреждающе прокатились громовые раскаты. Защелкали первые дождевые капли. Они становились все гуще и гуще, потом вдруг иссякли, чтобы вскоре вновь просыпаться косохлестом.
Ополченцы прибавили шагу, поспешая в близкое уже укрытие. Стали поторапливать лошадей возчики, устремились вперед конные послужильцы. Тут-то и догнал Пожарского отрядец Андрея Татева. Рядом с воеводой на белом с черными пятнами ногайском жеребце восседал плотный, будто из жести скроенный всадник в коротком плаще, четырехугольной шляпе с бахромой по волнистому краю и в красных сапогах со стоячими голенищами выше колен. Сорвав шляпу с головы, он помахал ею перед собой и с подчеркнутым достоинством возгласил:
— Поклоняюсь тебе на здоровье, князь! Учини свою милость.
Это был капитан Яков Шав. Не беда, что он поклон с поклонением перепутал. Понять его речь можно, а это главное.
— И я тебе кланяюсь, капитан, — откликнулся Пожарский. — На добром слове кому не спасибо? Со встречей! Мир тебе и ответное здравие.
Волосы у Шава белесые и плотные, как мочало, небольшие глаза упрятаны в пухлые мешочки, круглые навесные усы оканчиваются клоком желтоватых волос под нижней губой, вид — более чем воинственный.
— Как тебя Бог милует? — спросил Пожарский.
— Мокро, — водрузил шляпу на голову Шав и в свою очередь спросил: — Что скажешь?
— А то и скажу, что мокрому море по колено, — не удержался на серьезе Пожарский, но тут же, ругнув себя за ребячество, поспешил свою выходку загладить: — Правая рука, левое сердце! Помогай Бог и вашим, и нашим. Удачно ли ехалось?
— Ехалось! Ехалось! — закивал Шав. — Я есть прибыл до твоего иминейства. Хочу говорить важное дело.
— Здесь не получится, капитан. Сам сказал: мокро. Давай отложим переговоры на вечер. Татев тебя дальше проводит, а у меня, извиняй, сейчас запарка, — с этими словами Пожарский развернул коня и поскакал навстречу Поликарпу Рябому.
Встретились они с Шавом после вечерней трапезы в приказной избе деревянного острожка. Пожарский с собой сыновей взял: пусть не только в ратные, но и в переговорные дела вникают, опыта набираются.
Усадив напротив себя Шава, Пожарский предложил:
— Итак, капитан, излагай дело, с которым прибыл, а мы послушаем, хорошо ли оно нам или плохо. Мы люди ратные. Сам видишь, засиживаться ни тебе, ни мне не досуг. Так что лучше не петлять, а говорить прямо.
— О, да! То правильно, князь. Пустые слова говорить не пригоже. Одна беда: мой язык скоро по вашему излагать не исправен. Дай мне сразу вручить тебе в руки письмовную речь великих рыцарей, кои готовы быть с тобой в соединении против московских и польских неприятелей. Сия грамота наше дело лучше меня скажет.
— Изволь!
Они разом поднялись. Шав торжественно извлек из расписной укладки свиток и с поклоном вручил Пожарскому. Тот развернул грамоту и, убедившись, что писана она русским слогом, передал Татеву:
— Зачти-ка, Андрей Иванович, а мы послушаем, что нам великие рыцари из Австрийского государства пишут, — потом посоветовал Шаву: — Да ты садись, капитан. В ногах правды нет, — и первым опустился на лавку.
Пришлось Шаву последовать его примеру.
За окном лил дождь. Изредка серую мглу прожигала молния. Погрохатывал гром, и тогда язычки свечей чуть заметно подрагивали. Сыновья Пожарского примостились у двери, стараясь, чтобы их присутствие не лезло в глаза.
Моложавый, но уже грузный Татев читал многословное и витиеватое послание долго, выразительно. Из него следовало, что в некоторых королевствах Средней Европы уже в сборе немалое войско, готовое выступить против польских и литовских людей на стороне нижегородского ополчения. Шесть месяцев назад в русские города писал об этом английский капитан Петр Гамильтон, затем французский полковник Жак Маржерет, а теперь австрийские начальники над войском Фрейгер, Ястон и Гиль ответ через Якова Шава ждут «по нынешней летней дороге, чтоб мочно притти корабельным ходом», поскольку на прежние обращения ответа не было.