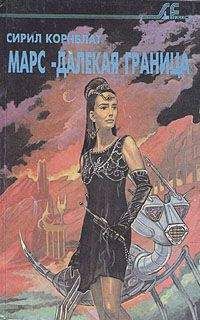– Англия, Англия! – с озабоченным лицом восклицал он. – Я только на днях читал, что Англия целых двадцать лет вела войну с революционной Францией. Двадцать лет! Вы только подумайте!
– Не смешите меня этими разговорами об Англии! – с улыбкой заметил Фабиан. – Ее роль сыграна. На этот раз мы вырвем у вашей пиратской Англии волчьи зубы, вырвем вместе с корнями, понимаете? Пойдемте-ка в ресторан.
Криг покачал головой и скорбно опустил глаза.
– К сожалению, не могу, – отвечал он, – я тороплюсь на вокзал, встречать мою дочь Гедвиг.
– Гедвиг? Ту хохотушку, которая служила у Таубенхауза?
– Да, – мрачно сказал Криг, – она целый год служила у Таубенхауза и часто работала до четырех утра. Работа так изнурила ее, что ей пришлось на несколько недель уехать в деревню.
У Крига было очень расстроенное лицо; он нервно теребил галстук и сумрачно смотрел на Фабиана.
– Я стал дедушкой, дорогой друг, – с убитым видом пояснил он.
– Дедушкой? – Фабиан хотел поздравить его, но при взгляде на удрученное лицо Крига и его полные слез глаза слова замерли у него на губах. Он даже растерялся.
– Да, дедушкой, – повторил смущенный архитектор. – Мир сошел с ума, дорогой друг, я убежден в этом! Однажды вечером Гедвиг с сияющим лицом заявила мне: «Радуйся, папа, я скоро стану матерью!». Меня чуть не хватил удар. Она помешалась, подумал я, но Гедвиг трясла меня за руку. «Радуйся же, папа! – восклицала она. – Я жаждала подарить фюреру ребенка и вот теперь осуществляю это». Безумие, чистое безумие!
Оторопевший Фабиан не нашелся, что сказать. Он только молча смотрел на Крига.
– Да, – продолжал архитектор, – теперь у меня, значит, еще новая забота на плечах. – Он помолчал в снова начал со смущенной улыбкой: – Вот уже несколько недель, как у Таубенхауза работает моя Термина; она тоже нередко задерживается до четырех утра. Вы представляете себе состояние отца? Что я могу сказать? Ничего. Безумие, чистое безумие! Прощайте, дорогой друг. – И он помчался вниз по Вильгельмштрассе.
Фабиан очень удивился, увидев, что в «Звезде» заняты все столики. Среди гостей были и офицеры запаса в полной военной форме. За одним из столов сидел гаулейтер со своими адъютантами Фогельсбергером, ротмистром Меном и капитаном Фреем. Фрею предстояло этой ночью отправиться на фронт. Куда ни глянь – ордена и почетные знаки; на одном из гостей красовался даже орден «Pour le mérite». У всех были взволнованные и не в меру веселые лица, без конца произносились тосты. Радио часто прерывало бравурную музыку военных маршей и передавало донесения с места военных действий. Бокалы вновь и вновь наполнялись вином; пили за «несравненные войска». Даже по количеству винных бутылок можно было судить о необыкновенных успехах армии, вторгшейся в Польшу.
Как ни удивительно, но все здесь, все до одного – судьи, адвокаты, прокуроры, профессора, проповедники, офицеры, – опьяненные победными реляциями, подпали под власть неумеренных надежд и пророчеств. Время от времени волна воодушевления, казалось, срывала со стульев этих людей, они высоко поднимали бокалы и пили за «великую Германию».
Тише! Говорит гаулейтер!
В самом деле, гаулейтер за своим столом начал произносить речь, все прислушались. Но так как прошло довольно много времени, прежде чем улегся шум, то гости услышали только конец его речи. А закончил он словами: «И через год мы будем пить кофе из наших колоний!»
Гром рукоплесканий был ему ответом, и звон бокалов заглушил восторженные крики.
Фабиан казался самым спокойным и разумным среди этих охваченных неистовством людей.
Конечно, он разделял общий восторг, но к бессмысленным и нелепым прорицаниям относился достаточно трезво. Не так-то просто будет отнять у этих бакалейщиков-англичан Гибралтар, Суэцкий канал и Индию, как это только что предсказал судья Петерсман. Нет, далеко «е так просто, почтеннейший господин судья! Эти бакалейщики и Франция, где половина населения негры, сильные противники, и недооценивать их не рекомендуется. Он хорошо изучил их во время мировой войны. А вообще, если отвлечься от всей этой болтовни и суесловия, он, конечно, приветствует войну. «Германию обошли при разделе земли, и она вынуждена снова воевать, чтобы исправить эту несправедливость», – думал он.
Мало-помалу Фабиан разгорячился и стал излагать свои взгляды сидевшему рядом пастору, который все время одобрительно кивал головой.
– Победители в мировой войне, если мне дозволено высказать свое скромное мнение, совершили чудовищную ошибку, так унизив Германию. Они сделали это потому, что не знали настоящей Германии! Совсем не знали. С народом такой мощи, с народом великих химиков, физиков, хирургов, философов, музыкантов и поэтов нельзя обращаться, как с каким-нибудь балканским народцем, нельзя заставлять его гибнуть в тесных границах. Это роковая ошибка. Теперь Германия выступила в поход за свои права, за справедливость, и вопрос уже будут решать пушки. Я командовал батареей и знаю, что такое немецкие пушки!
Пастор снова кивнул и велел принести себе еще бутылку мозеля.
А Фабиан встал взволнованный: провозглашался новый тост за «великую Германию».
В два часа ночи гаулейтер и его адъютанты поднялись, чтобы ехать на вокзал провожать капитана Фрея.
Румпф весело кивнул гостям, тоже повскакавшим с мест.
После его ухода праздник превратился в оргию. Под утро Фабиан пьяный вернулся к себе в номер.
Автомобиль остановился перед домом Вольфганга Фабиана в Якобсбюле. Из него вышли мать и дочь Лерхе-Шелльхаммер. Дом скульптора выглядел одиноким и запущенным; зеленые ставенки, выцветшие от солнца, были закрыты. Дикий виноград, вившийся по стене, уже начал краснеть; несколько усиков вросло в ставни.
– Посмотри, мама! – сказала Криста, обходя с матерью дом и указывая на заросшие ставни.
– Видно, его давно уже нет здесь, – отвечала фрау Беата. – Да и вообще в доме никого нет.
– Но ведь по телефону-то нам ответили? – Вдруг Криста остановилась. В высокой траве лежал с перебитым хребтом «Одинокий зверь», ранняя работа Вольфганга, которая стояла как украшение в саду. – «Одинокий зверь», мама!
– По-видимому, его снесло с постамента бурей. Дамы были очень разочарованы. Они обошли домик кругом и стали снова стучать в дверь:
– Ретта, Ретта!
Вдруг кухонное оконце скрипнуло, и из него боязливо выглянула старушка, похожая на сказочную ведьму.
– Гости приехали! – смеясь, закричала фрау Беата.
– Ах ты, господи, да еще какие почтенные гости! – проскрипела обрадованная старуха. – А я ничего не слышала. И фрейлейн Криста здесь? Сейчас открою!
Ретта впустила их и провела в маленькую столовую, где царил мягкий зеленый полумрак.
– Здесь только и убрано, – сказала она и распахнула ставни; в комнату ворвался резкий дневной свет. – Я как раз варю кофе и сейчас принесу вам по чашечке.
– Не беспокойтесь, Ретта, – сказала Криста. – Мы приехали узнать, что у вас нового.
Но Ретту нельзя было удержать.
– За эти шесть недель я живой души не видела! – воскликнула она. – Так неужто у вас не найдется полчасика для старухи?
Мать и дочь Лерхе-Шелльхаммер пробыли несколько недель в Баден-Бадене и затем совершили путешествие по Шварцвальду. Там, в гуще лесов, они обнаружили тихую чистенькую гостиницу, где и решили провести несколько дней. Но дни превратились в месяцы, так как Криста слышать не хотела о возвращении в город. И лишь после того как разразилась война с Польшей, они уложили свои чемоданы и, нигде больше не задерживаясь, поехали домой.
– Есть у вас известия от профессора, Ретта? – спросила фрау Беата, когда старуха вернулась с кофейником.
– Почти никаких, – отвечала Ретта, наливая кофе. Когда она говорила тихо, ее голос звучал хрипло, и ее едва можно было понять, а когда она повышала голос, он становился скрипучим. Ей было уже под семьдесят. – Профессор еще в Биркхольце, и вряд ли его скоро выпустят.
– Но вы знаете что-нибудь о нем? Пишет он вам?
– Ах ты, боже мой, – проскрипела старая крестьянка. – Писать им запрещено, там хуже, чем в каторжной тюрьме. Случается, правда, что кто-нибудь проберется ко мне из Биркхольца. Сначала профессор работал в каменоломне; это тяжелая работа, многие не выдерживают ее, но профессор – сильный, здоровый мужчина. Они тащат тяжелые глыбы вверх на гору, это уже многим стоило жизни. Говорят, Биркхольц – настоящий ад. Поначалу профессора каждый день били, потому что он не хотел говорить «хайль Гитлер».
– Били? – в ужасе воскликнула Криста.
Ретта кивнула головой:
– В Биркхольце они день и ночь бьют людей, многих уж забили насмерть! – выкрикнула она. – Но профессор не стал говорить «хайль Гитлер», я ведь его характер знаю. «Пусть меня убьют», – сказал он. Затем ему пришлось долго работать с каменотесами, которые по двенадцать часов подряд высекали плитняк. Но теперь ему полегче, рассказывал мне один человек на прошлой неделе. Он лепит бюст жены коменданта, – закончила Ретта свой рассказ.