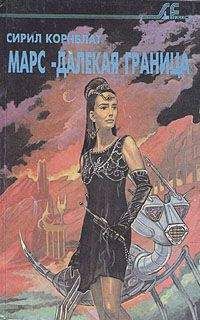– Очень красивый, по-видимому толедской работы, – сказал он, возвращая ей кинжал. Затем шагнул к бильярду и взял свой кий. – Ну, теперь довольно глупостей, – объявил он, – давайте продолжать игру.
Казалось, гаулейтер никогда не был в лучшем настроении, чем в этот вечер. Марион пришлось выпить с ним вина, а на прощание он подарил ей кольцо с двумя большими брильянтами.
Время от времени он, добродушно посмеиваясь, возвращался к этой теме, что было пыткой для Марион.
Однажды, когда ротмистр Мен очутился возле нее, Румпф крикнул ему смеясь:
– Осторожно, у этой особы в платье спрятан кинжал!
Ротмистр Мен недоуменно посмотрел на Марион и пожал плечами. В другой раз Румпф не удержался от колких намеков в присутствии Фабиана.
О кольце с двумя брильянтами он никогда не спрашивал. И слава богу, так как правды Марион не могла бы ему сказать. Получив подарок, она немедленно показала его своей приемной матери, которая посмотрела на кольцо так, как смотрят разве что на ядовитое насекомое.
– Вымой руки содой, Марион, – распорядилась она. – Здесь в каждом камне по карату, посмотрим, хорошо ли они горят? – и старуха швырнула кольцо в топку плиты. Золото расплавилось, камни же, голубовато-черные, как сталь, почти не отличались от углей. Затем мамушка совком вынула угли и бросила их в ведро с водой.
– Чтобы они ни на кого ни накликали беды. Гаулейтер по нескольку недель проводил в Польше, затем возвращался, утомленный и обессиленный попойками в тылу, и через несколько дней уезжал снова. Когда же он решил остаться там на более продолжительное время, то был срочно вызван телеграммой в Мюнхен. Он получил новое назначение, и его автомобили снова помчались на восток. К концу польского похода гаулейтер опять прибыл в Эйнштеттен. «На этот раз уже надолго», – заявил он.
Он пригласил Марион к чаю и очень тепло ее принял. Приглашены были еще майорша Зильбершмидт, которую Марион уже несколько раз видела в Эйнштеттене, и адъютанты Румпфа, Фогельсбергер и Мен; капитан Фрей погиб на фронте. Марион от души радовалась, что она здесь не единственная гостья. Майорша Зильбершмидт всегда вела себя с ней изысканно вежливо. Она, как говорили, была помолвлена с Фогельсбергером, однако оставалась в большой дружбе с гаулейтером.
Как-то раз майорша сказала Марион:
– Гаулейтер очень высоко ставит вас. Он влюблен в ваш смех и сделает для вас все что угодно.
Марион отвечала, что это ее очень радует, но ей от него ничего не нужно.
– Тогда вы просто дурочка, дитя мое, – неодобрительно заметила майорша. – Я была бы счастлива, если бы он хоть наполовину относился ко мне так, как относится к вам.
Гаулейтер, упоенный немецкими победами, пребывал в превосходнейшем расположении духа. Чаепитие началось с того, что он предложил гостям всевозможные сорта водок.
– Польский поход останется одной из самых блестящих кампаний в истории! – воскликнул он. – Мы смели их в кучу, как опавшие листья. Польша исчезнет с лица земли. Сила – это все, вот вечная истина. Великий народ должен воевать! Англия и Франция воевали и стали великими! А если великий народ устает воевать, он гибнет. Мы, слава богу, завоевали жизненное пространство. Мы – великий народ и не можем довольствоваться трехкомнатной квартиркой. Это недостойно нас.
И он стал рассказывать, что в Польше ему предложили имение в двадцать тысяч моргенов и замок во французском стиле. В замке посеребренная арматура и шесть ванных комнат, сверху донизу выложенных великолепным кафелем.
Но вокруг этого замка болота, слякоть, грязь.
Немецкое прилежание и немецкая настойчивость превратят запущенную Польшу в рай.
Ротмистр Мен позволил себе заметить, что война еще не кончена. Англия и Франция попытаются затянуть ее.
Гаулейтер расхохотался.
– Попытаются, попытаются, дорогой Мен, – крикнул он смеясь, – мы им доставим это удовольствие, боюсь только, что оно им скоро надоест. Блестящая дипломатия фюрера, нейтрализовавшая Россию, вывела из мировой истории Англию и Францию, они теперь не играют никакой роли. Господа, – продолжал гаулейтер, – приглашаю вас отпраздновать нашу полную победу над Польшей. Сегодня в десять часов!
Все обещали прийти, только Марион сказала, что, к сожалению, не может быть: отец болен и ждет ее. Гаулейтер заботливо проводил ее до двери.
– Я очень сожалею, что вы уходите, – сказал он.
Ротмистр Мен, как всегда, проводил ее до дому.
Марион была в большой тревоге. Нет, ей не следовало решаться на тот первый шаг, не следовало! Мамушка держалась того же мнения. «Подальше от этих мерзавцев, – говорила она. – Мы бросаем вызов богу, когда приближаемся к ним хотя бы на шаг».
Да, но она сделала этот шаг, и отступать теперь слишком поздно.
Не надо было обращаться к гаулейтеру по поводу школьного помещения, даже если бы они все задохлись в грязи и пыли. А она-то еще наряжалась и прихорашивалась. О, конечно, не затем, чтобы влюбить в себя Румпфа! Нет, нет! Это ей и в голову не приходило. Но она хотела произвести на него впечатление, чтобы он не ответил отказом. «Кроме того, – думалось ей, – пусть он убедится, что еврейки бывают красивы и умеют одеваться».
Она была жестоко наказана за свое тщеславие Улыбка исчезала с ее лица, когда в школе ей сообщали, что господин ротмистр Мен желает заниматься с ней сегодня в пять вечера. Отступления не было. Она не могла отказаться, не подвергая опасности жизнь отца, мамушки и, быть может, свою собственную. Гаулейтер дважды доказал ей свое расположение: в первый раз, когда вернул отцу институт, и во второй – когда открыл перед ним ворота Биркхольца, где много сотен евреев и поныне ждали освобождения.
К величайшей своей радости, она встречалась с гаулейтером очень редко после того, как он вернулся из Польши. Пожалуй, не чаще, чем раз в месяц. По-видимому, он теперь действительно был «перегружен делами». «3 последние недели урок с вами – мой единственный отдых», – часто повторял он.
Марион стала свободнее и увереннее в своем обращении с Румпфом и ежедневно благословляла того, кто выдумал бильярд; эта игра была ее спасением в часы, которые она проводила в «замке». Но и эти немногие часы требовали от нее огромного напряжения сил; нельзя было ни на секунду забыться. Гаулейтер желал видеть ее естественной и веселой; хорошо, она была естественна и весела. Он любил ее смех, и она часто смеялась, что ей было нетрудно. Надо было держаться с ним так, чтобы он не скучал с ней и, главное, чтобы он не находил ее менее привлекательной. В этом состояла самая большая трудность. Она вынуждена была всегда изысканно одеваться и порой даже слегка кокетничать с ним.
Марион уже давно перестала носить с собою кинжал, это была просто романтическая выходка, порожденная страхом.
Румпф тотчас же это заметил.
– Что я вижу? – сказал он. – Вы больше не носите при себе кинжала? А что же вы сделаете, если на вас нападет бродяга?
– Я пущу в ход голос, ногти и зубы, – ответила Марион, показывая зубы.
Румпф смеялся до упаду.
– Вот так-так! – восклицал он. – Да тут, пожалуй, сбежит и самый лихой разбойник!
Марион хорошо изучила гаулейтера. Он был человеком настроения. Когда он пил красное вино и курил сигару, все шло гладко. Его отличительными чертами были тщеславие и эгоизм.
Впрочем, в Румпфе было много противоречивого и загадочного: он бывал добродушен и жесток, вежлив и варварски груб, чувствителен и циничен.
Она часто думала, что он просто избалованный ребенок, которому дали возможность своевольничать.
Любил ли он ее, если он вообще был способен любить, она не знала, хотя он часто уверял ее в этом. Но она ему, бесспорно, нравилась.
То, что она еврейка, его нисколько не смущало.
– Это мне совершенно безразлично, – сказал он. – Я моряк, десять лет я прожил в чужих краях и хорошо знаю свет. Повсюду я видел евреев, мирно живущих с другими народами; антисемитом может быть только человек, никогда не выходивший за околицу своей деревни; я в этом убежден. Не скажу, чтобы я был другом евреев, нет, не так уж я их люблю, но в травле евреев я участвовать не намерен. Конечно, я должен подчиняться определенным указаниям, как всякий, кто не совсем свободен. А ведь даже американский президент, и тот не совсем свободен; бесчисленные миллиарды долларов указывают ему путь, по которому он должен идти. Евреи со своим инициативным умом и деловитостью на протяжении сотен лег участвовали в созидании Германии, почему же теперь считать их людьми второго сорта? Это несправедливо. А если иной раз они слишком пробиваются вперед, надо просто наступить им на ногу и призвать их к скромности. Не так ли? Но кое-что я все-таки сделал бы, и знаете, что именно? Я отрезал бы одно ухо всем тем евреям, которые слишком далеко заходят в своей жажде наживы и обманывают людей; я сделал бы это хотя бы для того, чтобы предостеречь людей от обманщиков.