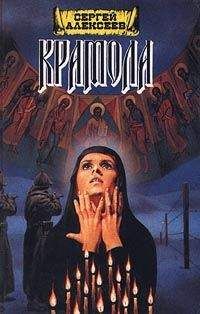Глаза матери сверкнули и тут же заволоклись печальным раздумьем.
— Почему же ты разойдешься с братом? — тихо спросила она.
— У Андрея свой путь…
— Каждому свой путь, но только в одну сторону. И ступайте рядом. — Она посмотрела на Андрея. — Болит?.. Лица твоего не вижу. А чудится мне — гордыня тебя мучает.
— Признайся, Андрей! — Саша сжал его руку. — Месть тебя одолевает! Признайся! Кому ты еще скажешь?
— Не месть это, маменька, — помедлив, произнес Андрей и глянул на брата. — Я хочу возмездия…
— Он сам не свой, матушка! — воскликнул Саша. — Он такое пережил!
— Тебе бы отдохнуть, Андрей, — ласково сказала мать. — Остудить голову.
— Я знаю… Но я чувствую…
Она выпустила их руки, встряхнула четки, стала перебирать неумелыми пальцами, и Андрей вспомнил, как мама играла на фортепьяно. Кажется, тоже неумело и пугливо, однако от этого музыка становилась легче и летучей. Андрей и Саша как-то одновременно разняли свои руки. Оба смотрели на мать.
— Если так, — наконец отозвалась Мелитина, повернувшись к Андрею, — если чувствуешь — ступай, благословляю.
Саша вздохнул, глянул на брата исподлобья и опустил голову.
— Я ведь вам не советчица, — призналась Любушка. — Мне бы уберечь только вас.
— Что же мне, маменька? — спросил Саша..
— Тебе?.. Будь бы мир — к обители и близко не пустила бы. А в таком коловерчении… Ты пропадешь. Ты слабый, жалостливый.
— Я — слабый? — поразился Саша.
— Ага, сынок. Ты в отца характером. Ему в миру трудно жилось… А раз так, проси дядю, он-то отговаривать не станет. Он готов всю родову постричь, весь народ в монастыри собрать. Да хватит ли стен-то? Монашество — дело святое, да ведь в рясе-то человек — не человек. Живой покойник. А людям жить надо, детей рожать. И воевать надо… Кто жить-то станет?
Она посидела молча, потупив взор, затем, перекрестясь, шепнула — прости, господи.
— Как же ты тут живешь, мама? — натянутым голосом спросил Андрей.
— Как живу? — она вдруг впервые улыбнулась. — Читаю вот, много прочитала. Беда — дни короткие, а свечей нет… Читаю и думаю: как у всяких людей жизнь устроена? На вид — будто все одинаковы, а в разных странах живут по-разному. Вот в Грециях тоже вроде православные, а на нас-то совсем не похожи! — Она тихо засмеялась от удивления. — Они там все каменное строят, вечное, а на России — деревянное. Они думают, вот поставили дом, так на тыщу лет хватит. И радуются! А чему радоваться? Деревянный-то куда лучше. Постоял немного, пожили в нем люди, и пора уж новый ставить. Это ведь каждый раз обновление! В новой избе и жизнь по-новому!
Андрей ощутил легкий холодок на спине: то ли в здравом рассудке она, то ли снова заговаривается.
— Беда у них в Грециях, — вздохнула мать Мелитина. — Камень не гниет. А у нас красота. Вот и жизнь при батюшке-царе тоже была словно деревянная. Пропала она — теперь новую хотят строить. И дом наш старый был… Что делать? Так бы и так развалился. Вы уж строить-то помогайте! Да только из дерева, не как в Грециях. А то монастырь наш каменный, и как здесь холодно-о бывае-ет…
После обеда монашенки и послушницы разошлись работать, каждая на свое место. Те, что постарше, пряли и ткали, а молодые трепали лен на холоде и пилили дрова. Все кругом были заняты, и даже Никодим, вздремнув в бричке, взял колун и отправился в дальний угол двора. Без дела оставался один Андрей. Саша давно забрался в монастырскую библиотеку и не вышел к столу.
Андрей побродил вокруг монастыря. Потом вернулся во двор. И неожиданно столкнулся с братом.
— Пойдем! — позвал Саша. — Помнишь, мы в дядин шкаф лазили? Гвоздем отпирали? А теперь все для нас открыто, пойдем! Там книги, можно сидеть и читать…
— Ну а потом? Что потом?! — закричал Андрей.
— Думать…
Андрей побежал было к воротам, но остановился:
— Кругом такое!.. О чем еще думать? Беда у них в Грециях? Камень не гниет? А у нас — красота?!
Саша отшатнулся и, оглядываясь, побрел к кельям. Там он забился в дальний угол сумрачного коридора, сел и заплакал. Над входом, под иконой божьей матери в киоте, горела голубоватая лампадка. Огонек ее двоился в глазах, множился, так что чудилось, будто пылает там праздничный подсвечник и сумрак коридора рассеивается под его светом.
Потом Саша зажмурился, выжимая слезы, утер руками лицо и прислушался — тихо…
— А белому лебедю нигде не спастись, — проговорил он и всхлипнул, — велик он, аще бы в осоках утаиться, и бел, еже бы перо свое в грязи марать…
19. В ГОД 1182… В ГОД 1183…
Потекли смерды по трясинам и болотам, затрещали в трещотки, зазвонили в колокольцы, абы птицу на крыло поднять, по воздуху ее распустить. Да страшно птице от земли подняться, покинуть травы да камыш. Менее человек пугает ее треском да звоном на земле, нежели соколы в небе. Попрятались утицы и перепелки, кулички в трясинах будто сгинули. А белому лебедю нигде не спастись, велик он, аще бы в осоках утаиться, и бел, еже бы перо свое в грязи марать.
И расправил лебедь крыла, побежал водою и крикнул так, что другие птицы обмерли и смерды зазябли. Взмыл он в небо под соколиный глаз и поплыл к смерти своей.
Пала на того лебедя стрела черная, взметнулся белый пух, ровно облачко, полетел над землей. И не успел он опасть на травы болотные, а уж птица смерть приняла и, свергнутая с небес, распласталась у лошадиных ног.
Еще в юности сказал Игорь старцу-кудеснику: «Нет прекраснее зрака, егда сокол лебедя избивает!» И ответил ему кудесник: «Спросим же у встречных, княже. Кто одним словом скажет — того и правда».
Пошли они лесом, чернец на пути встретился, вязанку хвороста нес.
— Ответь же, божий человек: какой зрак прекраснее всего на земле? — спросил кудесник.
— Лик господа нашего, — смиренно молвил инок.
Пошли они полем, увидели пахаря с сохою, в тяжком труде пребывающего. И его попытали. Утер пот ратаюшко и вымолвил:
— Зрак тот, егда хлеб на столе стоит.
Пошли они степью, где намедни сеча случилась кровавая. Вороны над мертвыми телами кружились, черви кишели — аж трава шевелилась. Отыскали они умирающего воина, спросили.
— Зрак сей — мир, — вздохнул он и умер в тот же миг.
Будто накрепко запомнил тогда слова сии юный князь Игорь Святославич. Да повыветрились они на бранных полях, ровно надпись на придорожном камне…
А случилось тут князю поехать на охоту соколиную с шурином своим Владимиром Ярославичем Галицким да с сыновьями малолетними. В печали глубокой ехал он. Сон дурной накануне привиделся и не давал покою ни в тереме, ни в вольном полюшке.
Поднялась из болотца утица, пустили своих соколов Святослав и Олег да поскакали за ними следом. Чуть увидел сей зрак Игорь, и отошла от сердца печаль — кручина. Залюбовался — эко чудо! В небе соколы летают, сыновья по земле скачут! Будь крыла у них — так бы и воспарили!
Олегов соколец первым настиг утицу, ударил походя, а другой-то сокол, Святославов, озлился, что добычу допережь взяли, и налетел на соперника своего. И стали они бить друг друга, роняя перья на мертвую утицу. Вот уж крыла поредели, и хвосты щипаны, а все не уймут страсти своей. Видно, до смерти схватились соколы-соперники. Загляделся Игорь в небо да слышит, Ярославич кличет:
— Соколы-то в небе, а соколята на земле!
И узрел Игорь, аки сыновья его, с коней сойдя, насмерть бьются в худой осоке. Вот уж за кинжалы похватались княжичи, кружат кругами, ровно вороги лютые. Олег хоть и меньше летами, а не уступает старшему брату, и злоба из очей его брызжет!
И сыплется на них соколиное перо…
Поднял Игорь плеть и поскакал к своим отрокам. Едва поспел Владимир, абы десницу его остановить.
— Эка невидаль — отроки повздорили! Не беда, коль потешатся до первой крови!
На отца глядючи, охолонулись сыновья, спрятали кинжалы и очи потупили. Тем временем рухнул к ногам Олеговым соколец его, распластал крыла и глаза закатил. А сокол Святослава покружил из последних сил и тяжко на плечо господину своему опустился.
И будто унялся Олег, а гнев в очах-то шает, горит угольком оброненным. Того и гляди — пожаром обернется…
Затужил Игорь, еще пуще запечалился, да так ни разу сокола не пустив, велел домой ворочаться. Поднял Олег добычу свою — битую утицу, а соколом мертвым бросил в брата.
— Неужто и вас ко кресту приводить?! — взбеленился отец.
Ускакали сыновья. Князь с шурином своим тихо поехали, поводья до травы достают.
— Отчего же печаль твоя, брат? — спросил Владимир Ярославич. — Не ведал ты горя, коли сия безделица тоскою блазнитсе. Все есть у тебя: дружина храбрая, и дом, и мудрая жена, и дети — княжичи удалые. Пожелаешь — и на Киевский престол сядешь. Ты же, брат, в печали, ровно под черными чарами.
— Завидую тебе, шурин, — вдруг вымолвил князь. — Твоему роду завидую.
— Тебе ли завидовать, Святославич? — понурился Владимир, в камень лицо затвердело. — Изгою и бездомок не завидует… — И закричал, потрясая плетью: — Отче мой, Осмомысленный, Настасьичу престол завещал! Выб…ку — Галич, а мне?! Сказывал, веры нет у меня. А веры по всей Руси нет! — Он заступил конем путь Игорю, заговорил страстно, так что сокол слетел с руки и забился на ременной привязке: — Сам-то он с верой живет ли? Христу молится! И посты блюдет! Да ведь абы боярам своим угодить! И не верит он в триединого бога! Трояновы стези в душе своей тешит, стихии умом покоряет. И шагу не ступит прежде, чем тропы под ногой не позрит! А хворь потом лечит причастием святым. Недужится ему, егда он во храм ступает. Лихорадка бьет, очи пылают! А его звезды мучают у честного креста!