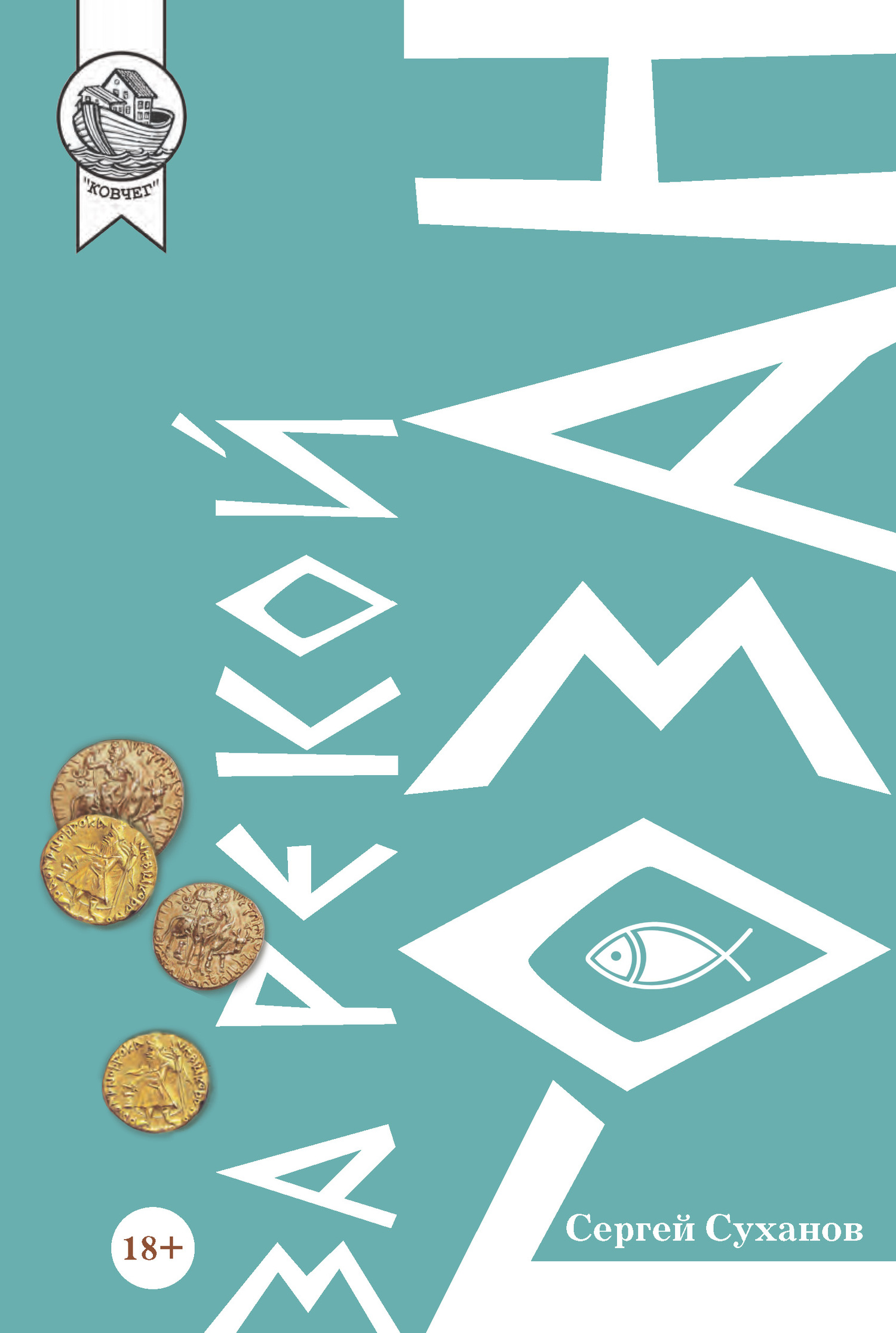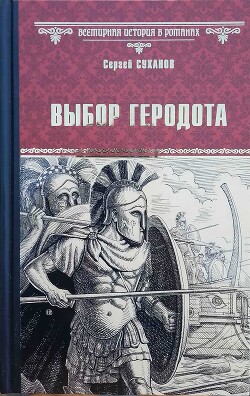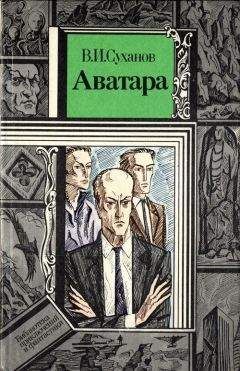человеком богов тоже есть воображение: Ахурамазда создал сияющего человека Гайомарта, а Ахриман – злых дэвов и храфстр, чтобы испоганить космос.
– С чего это я болен? – недовольно бросил Дижман.
– Как давно ты употребляешь хашешу? – вместо ответа спросил иудей.
– Лет десять… уже и не помню, когда начал.
– А как часто?
– Каждый день.
Иешуа многозначительно посмотрел на него.
– Вот и ответ…
– Погоди… Ты хочешь сказать, что все это – склеп, Сатана, бесовка… и ужас, который я испытал – мне примерещилось?
Иешуа молча кивнул, теперь уже с состраданием глядя на собеседника. Дижман был потрясен. Он то качал головой, то нервно сжимал пальцы, раздумывая.
Иудей ждал.
– Значит, и богов нет? Предвечного нет? – наконец с болезненной язвительностью спросил халдей.
Было заметно, что он находится в сильном замешательстве.
– Есть, – ответ прозвучал твердо. – Если ты в нем нуждаешься, если веришь. Он и искра – одно и то же. Он – как импульс, который движет твоими поступками. А иначе как отделить добро от зла? Его сердцем надо чувствовать… разговаривать с ним, спрашивать. Только так искра разгорится. И тогда он тебе ответит, знак подаст… Ты разве не молишься?
Дижман махнул рукой, не станет же он сейчас рассказывать про Анана, про то, что стал гером [168] только потому, что такая у него работа. Не может он и открыть, в чем именно заключается эта работа.
Иешуа смутился: с одной стороны, вроде сам начал откровенный разговор, а с другой – ему не хотелось делиться личными переживаниями. Но он понимал, что от его искренности сейчас зависит духовное спасение человека.
– Я вот часто молюсь… И тогда, понимаешь… внутри разливается свет, и душа замирает от нежных звуков кифары. У тебя есть что-нибудь святое?
Халдей задумался. Ему вдруг вспомнилось раннее утро в детстве: луч света бьет сквозь приоткрытую дверь, теплые руки мамы, пахнущие тмином и козьим сыром… вкус парного молока на губах… И собственный счастливый смех.
Он сглотнул.
– Вижу, что есть, – мягко сказал Иешуа, – вот это и представляй себе, когда будешь думать о Нем… Потому что Он дал тебе эти ощущения. Начни с этого. Я верю, что все зло – от несовершенства человека. Но изменить людей кажется мне непосильной задачей для одиночки. На меня иногда такая тоска накатывает, хоть вой. Хорошо, что они меня не бросают, когда трудно, советуют…
– Кто?
– Голоса внутри меня.
Иудей грустно усмехнулся, прочитав недоумение на лице Дижмана. Внезапно тот встрепенулся.
– Тогда почему мы оба видим рыжую? А? – в голосе халдея прозвучало торжество.
– Не знаю, – честно ответил Иешуа.
Нахмурившись, заключил:
– Вот, значит, и я болен.
Его лицо просветлело, когда он вернулся к прерванной мысли.
– Хотя почему для одиночки? Вот ты, например, хочешь заслужить Царство небесное?
Халдей воровато огляделся по сторонам.
– Да. Но я боюсь Са-та-ну, – сказал он одними губами, медленно растягивая имя по буквам, чтобы тот, о ком он говорит, не услышал.
Иешуа придвинулся, положил ладонь ему на лоб.
– Просто сиди и думай о хорошем.
Ветер шевелил волосы на голове иудея, волнистой рябью пробегал по траве. Облака в голубой вышине деловито продолжали бесконечный бег, сталкиваясь друг с другом, сливаясь в одно целое, на мгновение закрывали солнце и тут же выпускали на волю.
Двое сидели долго.
Наконец Иешуа убрал руку.
Дижман открыл глаза, огляделся, удивленно спросил:
– Я спал?
– Да, – ответил Иешуа слабым голосом, плотнее закутался в одеяло, словно ему было холодно, потом без сил опустился на траву.
Тахмурес целый день двигался по заросшему грецким орехом и вечнозелеными дубами ущелью, обходя кишлаки.
Улдин оказался прав: как только он начинал бить в колотушку и нечленораздельно бубнить, встречные крестьяне сразу подбирали камень с земли или грозно потрясали посохом, чтобы прогнать заразного калеку с дороги.
Тогда кушан поспешно тянул яка за продетую через нос веревку в сторону, прижимался к скалам, бывало – лез в заросли черемухи и жасмина. Так и стоял, прикидываясь больным полудурком до тех пор, пока путники не удалялись. Роль прокаженного ему надоела, но тяжелые травмы еще беспокоили, поэтому он терпел.
Кушан утешал себя мыслью о том, что во время скрытого рейда в тылу врага без маскировки не обойтись. А он теперь вроде как лазутчик.
Тропа поднималась все выше и выше. Тахмурес поражался богатству форм и неповторимому многообразию гор. Вот слева припорошенный снегом склон сначала тянулся грязно-бурой, невзрачной и скучной стеной, как вдруг весь покрылся гладкими складками, похожими на сморщенную бычью юфть. Но красными!
Граниты сверкали крапчатыми боками. Слева аккуратными стройными рядами поддерживали утес базальтовые четырехгранные столбики – словно вырубленные каменотесом. А справа сгрудились белоснежные скалы, иссеченные ветрами и непогодой так, что стали похожи на толпу призраков. Казалось, духи в длинных балахонах стоят бок о бок, склонив головы перед раскинувшей над пропастью ветви сосной, как перед загробным властелином.
Ночью он прижимался к теплому боку яка, глядя на малиновые от заката снежные шапки, над которыми висела огромная желтая луна. По небу разливался таинственный свет, открывая взору величественный силуэт хребтов, настолько четкий, что казалось, будто его вырезали из бумаги. Даже тени от зазубренных пиков стекали не черными, а нежно-голубыми языками.
Вокруг стояла пронзительная, звенящая тишина, от которой ломило виски.
Тахмурес удивлялся изменчивости судьбы.
Столько всего произошло с ним за последнее время – трагического, странного, непредсказуемого, а ведь он вышел из Бактры всего месяц назад. Слава богам! Он жив и почти здоров.
Кушан с грустью вспоминал погибших товарищей – все они, не задумываясь, отдали за него жизнь. Он посмотрел вверх, туда, где сейчас в железных доспехах парят их фраваши, бессмертные души, украшая небосвод звездами.
Тахмурес подумал о Мадии, представил себе его мучительную смерть, и на его скулах заиграли желваки. Во время первой встречи в кишлаке староста показался ему подозрительным – не то ушлым, не то скрытным.
Но горы все расставили на свои места.
Оказалось, что в груди оракзая билось сердце настоящего воина. Вспомнив побег от мандаров, кушан почувствовал уколы совести. А что он мог сделать – обессилевший и безоружный? Он ведь тогда и сам попрощался с жизнью. Сейчас валялся бы обглоданной волками падалью, а грифы клевали его вмерзшие в лед кости. Если бы не призрак анакима…
Померещилось? Так он и в ущелье Сурхаба был. Разве может один и тот же морок повторяться? Кушан усилием воли отогнал мрачные мысли, затем запахнул поплотнее халат и заснул…
Утром он продолжил путь.
Ущелье сузилось, щебневые завалы стали