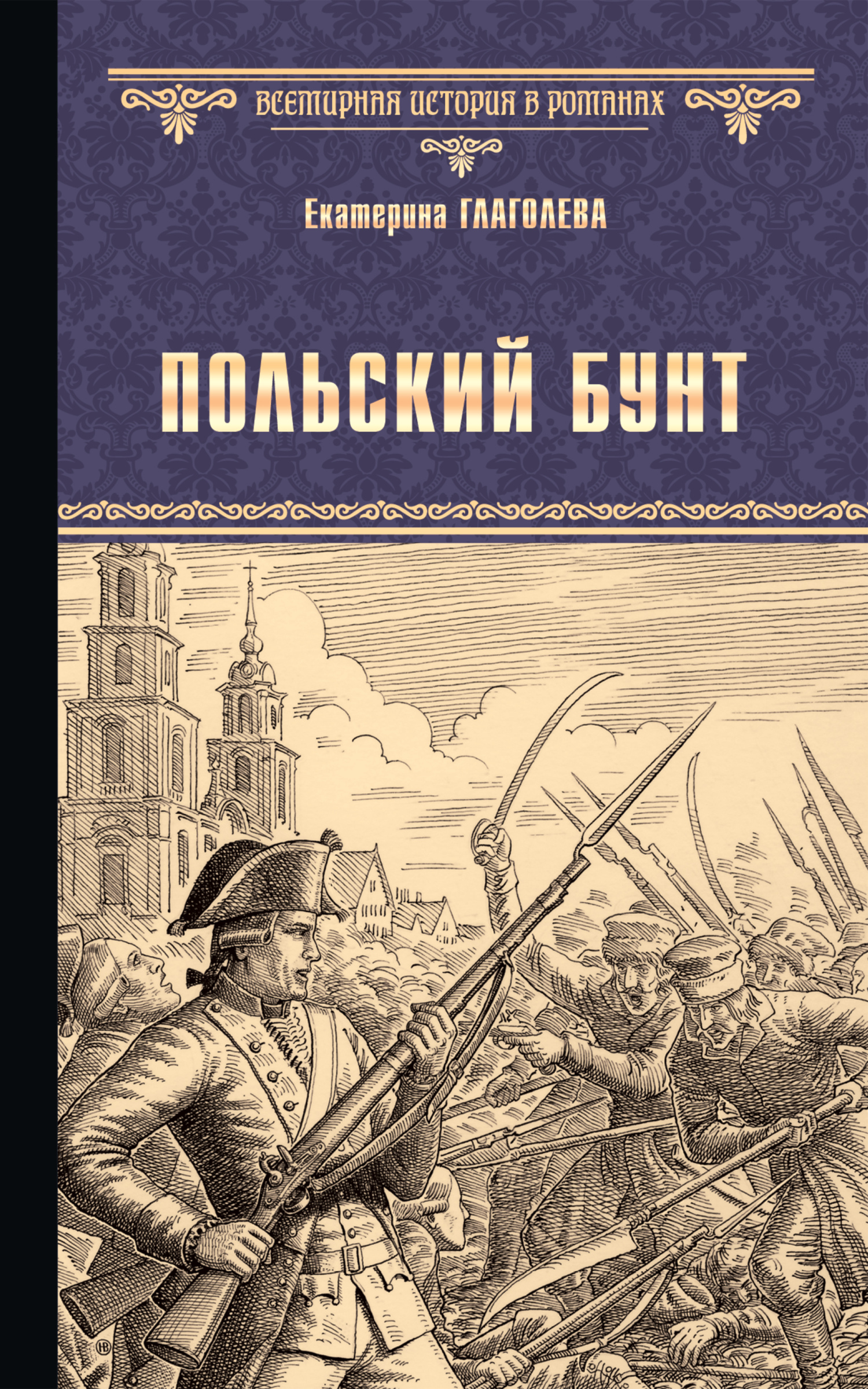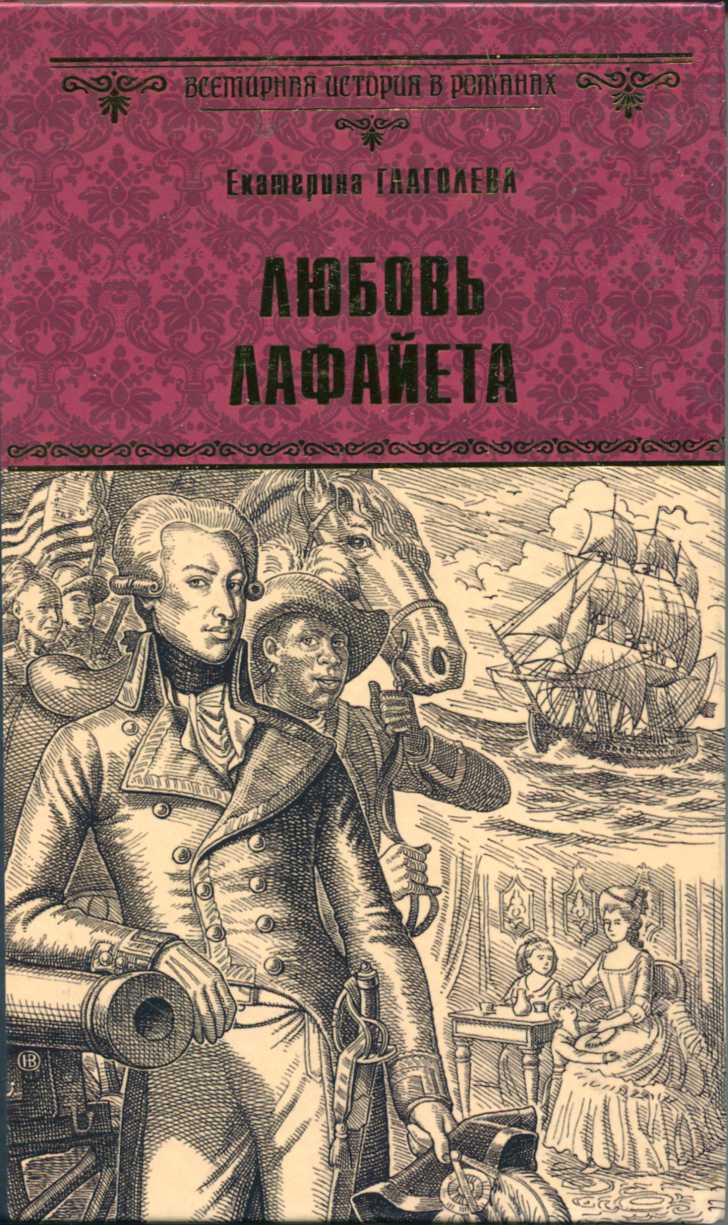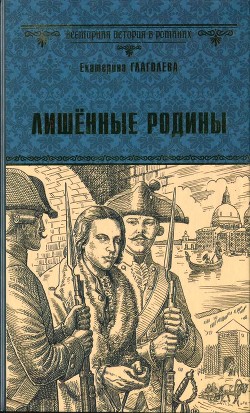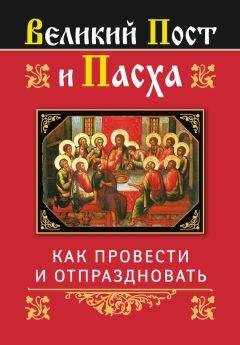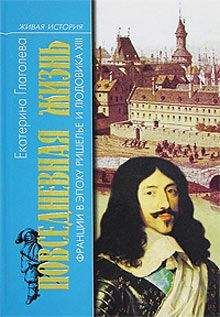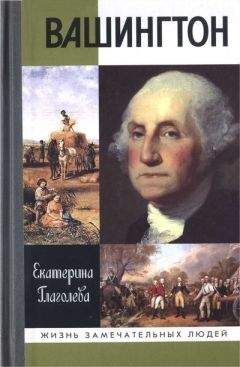за поворотом; Килинский ехал следом. Серая хмарь со снежным крошевом застила глаза, лошадь оскальзывалась на льду: подморозило. Эх, надо было к кузнецу ее сводить перед дорогой… Революцию, видать, ему второй раз уже не сделать – как ее сделаешь, если не на кого опереться? Ну да может, еще и сладится, добраться бы только до Великой Польши…
Справа, со стороны леса, послышался дробный топот копыт: пять казаков скакали наперерез. Молодой усач осадил коня перед самой мордой кобылы Килинского.
– Всё, дядя, приехали! Поворачивай оглобли.
* * *
Солдаты сбрасывали ящики с подводы, разбивали их прикладами, а потом набрасывались на высыпавшиеся оттуда деньги. Крик, ругань, драка… Вавжецкий отошел от окна и бессильно опустился на лавку. Гедройц, Гелгуд и Неселовский сидели за столом в полном молчании, как на поминках. Домбровский, заложив руки за спину, ходил между печью и столом: три шага, разворот, остановка, три шага, разворот… Все мысленно умоляли его прекратить, но никто не смел высказать этого вслух.
Дверь распахнулась, и вошел казак с пистолетом в руке. Домбровский замер, не докончив очередного разворота, Гедройц привстал, Вавжецкий удивленно поднял голову… Из-за спины казака выступил Федор Петрович Денисов.
– Добрый вечер, господа! – сказал он, оглядев всю компанию. – Честь имею предложить вам следовать со мной в Варшаву к генерал-аншефу Суворову.
– Это арест? – спросил Вавжецкий. – По какому праву? Нам всем объявлена амнистия, и мы…
– Я никого не арестовываю, – перебил его Денисов, – и ваше оружие останется при вас. Однако при нынешних обстоятельствах…
Договорить ему не дали. Дверь чуть не слетела с петель, и комната наполнилась галдящими офицерами, требующими паспортов. Денисова прижали к польским генералам, казак прикрывал его собой, держа заряженный пистолет дулом вверх. Когда гомон стих, Денисов объявил, что будет ждать господ генералов снаружи, пока они закончат свои дела. Вавжецкий сел к столу и принялся выписывать паспорта.
* * *
По щекам Марыли текли слёзы, Ян собирал их поцелуями. Поцеловав ее в последний раз и перекрестив, он повернулся к стоявшему рядом адъютанту:
– Отвезешь ее в Варшаву. Называй ее только своей фамилией, чтобы москали не прознали, что это моя жена.
Тот обещал, что всё исполнит.
В сенях дремал казак. Килинский схватился за живот, показав, что ему нужно выйти по нужде. На нем был один жупан без кунтуша (правда, под него он надел три рубахи), и казак разрешил: по такому холоду далеко не уйти. Освоившись в темноте, Ян приметил два черных шевелящихся контура и пошел туда. Взяв от своего человека шубу, он вскочил в седло и пустился вскачь.
За ночь им удалось отъехать довольно далеко, не слыша за собой погони. Остановившись покормить коня, они продолжили свой путь и во весь день не встретили никого из военных. Килинский приободрился: видно, удача еще не отвернулась от него. Но на второй день он наткнулся на обоз. Завидев его, несколько казаков поскакали следом. Конь шибко несся, ёкая селезенкой, с хрипом вырывался пар из ноздрей; кони казаков пластались следом, приближаясь, заходя с обоих боков, точно волки, преследующие косулю. Килинский погнал своего скакуна через овраг, шепча про себя короткую молитву. Выехал на ту сторону, оглянулся на казаков – и тут спереди раздался окрик на немецком…
Удача всё еще стояла за плечом Килинского во время допроса у прусского генерала: на вопросы, кто он, откуда и куда направляется, Ян ответил, что он варшавский обыватель, едет из Варшавы в Познань к братьям и просит выдать ему паспорт. Генерал велел ему ехать в Петроков, потому что он паспортов никому не выдает. И тут удача на что-то зазевалась. К генералу привели два десятка польских солдат, один из них весело крикнул Килинскому: «Как поживаете, пан полковник?» Килинского вывели во двор и приставили к нему караул. Три часа он простоял под снегом и дождем, с пылающими от стыда щеками – зачем он солгал? Чего испугался?..
…Пленных поляков по одному выводили из конюшни. Килинский встал последним, рассчитывая вскочить на лошадь и ускакать. Он уже несколько раз прокрутил в голове, как это сделает, – надо пригнуться пониже к шее коня, чтобы не удариться о притолоку, – напружился, положил руку на гриву…
– Los, los! – крикнул солдат и саданул его в спину прикладом. Килинский вылетел из конюшни, не удержался на ногах и упал на четвереньки; на землю закапала яркая кровь.
Поляки выстроились в шеренгу, с опаской поглядывая на своих конвоиров. Во двор въехал верхом генерал Шверин.
– Кто здесь полковник? – спросил он.
– Я полковник, – отозвался Килинский, поднимаясь и размазывая кровь по лицу.
– Кто это зделаль? – нахмурился генерал.
Килинский мотнул головой в сторону пруссака, предотвратившего его побег.
– Dreizig Ruten [30], – сухо приказал Шверин. Солдата увели.
Удача, видимо, решила загладить свою вину перед Килинским: генерал велел выдать ему коня, отвел ему удобную квартиру в местечке, куда они прибыли к вечеру, и пригласил к себе на ужин. Но утром колесо Фортуны завертелось подобно мельничному: самого Шверина арестовали и отправили в Берлин за то, что он три месяца назад выпустил Мадалинского из Быдгоща с захваченной там добычей. Под Быдгощем Шверин был тяжело ранен и чуть не погиб; ошеломленные столь неожиданным поворотом, прусские офицеры растерялись, а Килинский под шумок вскочил в седло и помчался в Познань.
Наутро следующего дня туда же приехал Ксаверий Домбровский с паспортом от Суворова. Все польские генералы теперь были полководцами без армий; Мадалинский с горсткой улан пробирался к цесарцам, хотя Зайончека в Галиции арестовали. Коллонтая, по слухам, тоже схватили и посадили в Ольмюц. Поделом ему, курвину сыну, – сто пятьдесят тысяч червоных увез! Говорят, что генерал Лафайет, который сражался вместе с Костюшкой в Америке, тоже сидит в Ольмюце… Вот тебе и свобода… Пока справляли поминки по мертворожденной революции, за Килинским явились от коменданта и отвели его на гауптвахту.
* * *
Ключи от Варшавы, хлеб и соль поднесли императрице – разодетой, напудренной и нарумяненной. Отломив кусочек от каравая и обмакнув его в соль, Екатерина подала его стоявшей рядом фрейлине – Наталье Александровне, «Суворочке».
Единственная и обожаемая дочь Наталка стала полем битвы между бесстрашным генералом и государыней. Суворов забрал ее от двора, поселив у родных – императрица уступила, выдав ей всё-таки фрейлинский шифр, но теперь диспозиция изменилась: Наталья отвергла жениха, выбранного отцом, потому что тот был лютеранином, и государыня готовилась к контратаке, не сомневаясь в своей победе: уж тому жениху, которого сосватает она, отказа не будет.
Жених, Николай Зубов, был тут же, но даже не