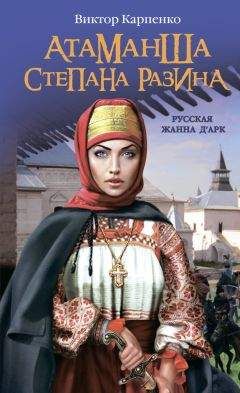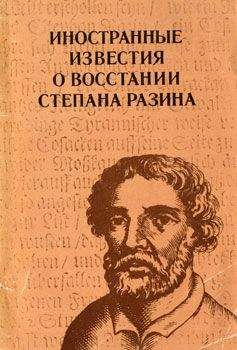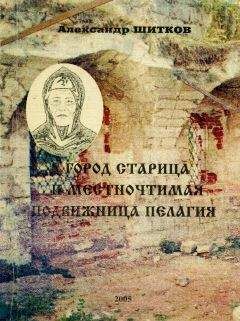Роман сразу же узнал его: это был он – мучитель, палач, находивший удовольствие в чинимых истязаниях. Он почти не изменился за этот долгий для Романа год. Такой же осанистый, сытый, красномордый. Только глаза его испуганно бегали из стороны в сторону, точно у побитого кобеля, да рот скривило на сторону.
– Развяжите его! – попросил Роман товарищей. Мотя ударил ножом по узлу, и веревки, стягивающие руки и ноги, упали на землю.
– Не признал, чай, государь, калеку? – подойдя ближе, спросил Роман Бабыкина.
Тот отвернулся.
– А ты рожу-то не вороти, вглядись получше. Твоих рук дело. Забыл, поди, как руки мне ломал, как рот рвал, как огнем жег?
Сын боярский вздрогнул.
– Забыл? Да нича, я напомню. Год тому назад гостевал ты у воеводы Щеличева в Темников-граде. Хорошо привечал тебя воевода. Так хорошо, что, когда ты потеху замыслил над тюремными сидельцами, он тебе в том благоволил, а одного из сидельцев тебе отдал без отдачи. Ты его тогда с собой взял. Помнишь? Вот молодец, коего ты огнем жег, перед тобой стоит.
Бабыкин, повернувшись, начал вглядываться в покалеченного.
– Узнал! Вижу, что узнал! Да, Игнашка, это я! Кровью своей заливаясь, поклялся я себе самой страшной клятвой, что, коли останусь жив, свижусь с тобой. Вот и свиделись!
Бабыкин, задрожав, выкрикнул:
– Повесите?
– Зачем же? – приблизился к нему Савелий. – То смерть легкая. Мы с тебя попервой шкуру сдерем, язык твой поганый вырвем, а самого в кипящей смоле сварим. То-то будет потеха!
Игнат, упав на колени, завопил:
– Помилосердствуйте! Христиане же вы…
– А, падаль! – замахнулся на трясущегося Игната Митяй.
– О Боге вспомнил! А сколь ты душ загубил потехи ради, не помнишь?
– Отмолю, все отдам на монастыри во искупление грехов.
– Кончай с ним, Роман, нам поспешать в Темников надобно, вести зело важные, – сказал Савелий.
Роман покачал головой.
– Нет, друже! – и обращаясь ко всем, произнес: – Поклянитесь, что не станете супротив моего слова, что не станете перечить в деле моем.
– Зачем тебе это? – пожимая недоуменно плечами, спросил Мотя. – Мы и без того все сделаем, что велишь. Но коли надо, изволь. Клянусь!
– Клянусь! – повторили товарищи за Мотей и перекрестились.
– Целуйте на том крест!
Товарищи повиновались.
– А теперь дайте ему саблю, – кивнул Роман на Бабыкина.
Разводя руками, Мотя дал оторопевшему Игнату свою саблю.
– Сами же садитесь на коней и поезжайте подале. Заводную лошадь оставьте здесь. Коли зарубит он меня, дадите ему уехать, не чиня преград, знать, воля на то Божья!
– Да как же ты с ним биться-то будешь? – ахнул Мотя.
– То моя забота, а вы о данной мне клятве помните!
– Да как же так? А? – сокрушался Мотя. – Зачем же ты?
– Оставьте нас!
Товарищи нехотя сели на лошадей, отъехали.
– Ну что, злыдень? Все в Божьих руках. Почнем.
Бабыкин оглянулся. «Воры отъехали далеко. Ежели они даже не сдержут клятву, то все равно я от них ускачу. А этого я мигом порешу».
Он опробовал саблю, со свистом рассекая воздух.
– Где же сабля твоя? – усмехаясь, спросил Игнат Романа. – Или ты этой вот палкой вознамерился меня убить?
– Ею, боярин!
Роман взмахнул посохом, лезвие скрытой в посохе сабли обнажилось.
Бабыкин, рассмеявшись, замахнулся от плеча и с силой опустил саблю. Бой начался.
Не утерпев, Мотя с товарищами подъехали ближе.
Игнат Бабыкин наседал все настойчивее. Он наносил удары и сверху, и сбоку, и пытался достать сзади, быстро обежав противника, но всякий раз его сабля встречалась с клинком Романа, который стоял на одном месте, поворачиваясь всякий раз круг себя и отбивая удары. Он только защищался, не нападая. Даже издали было видно, сколько усилий затрачивает он на каждый удар, сколько мук терпит он от каждого резкого движения.
Бабыкина охватило бешенство: он все чаще и чаще наносил удары, вкладывая в них всю силу, но безуспешно. Роман стоял, словно скала, хладнокровно отражая удары. Но вот он пошел в наступление: сделал шаг вперед и каким-то неуловимым движением поразил противника. Игнат вскрикнул. Плечо словно обожгло. Роман еще сделал выпад, и еще раз Бабыкин вскрикнул: лезвие, вспоров кафтан, полоснуло по ребрам. Страх все больше овладевал Игнатом, отнимая силы, холодил кровь. Вот и в третий раз достал Роман своего противника кончиком сабли. Он рассек ему скулу и щеку. Кровь заполнила рот, дышать стало трудно. Ужас овладел Игнатом. Отскочив на несколько шагов от Романа, он оглянулся: заводная лошадь стояла недалеко, шагах в двадцати.
– Что, боярин, трусишь? – прохрипел, тяжело дыша, Роман. – Помирать страшно! Так ты убей меня и живи. Ну, что же ты?
– Убью, но не сейчас! – выкрикнул Бабыкин и, отбросив саблю, метнулся к лошади.
– Стой! Стой! – закричал Роман, но Игнат был уже на коне. Еще мгновение и…
Но это мгновение было последним для Бабыкина. Роман, выхватив из-за голенища нож, метнул его в труса. Бабыкин повалился из седла, медленно сполз на землю. К нему поспешили Митяй и Андрей. Рукоять ножа торчала в левом боку, кровь струйкой выбегала изо рта, все было кончено.
Роман сел на землю, пот градом струился по шее, заливал глаза. Дышал он тяжело, с запалом.
– Ну, как ты? – склонившись к товарищу, спросил Мотя.
– Одюжил, – прохрипел Роман. – Меня не ждите, скачите в Темников, коли нужно, я опосля приду.
– Хорошо, друже, – Мотя одобрительно похлопал по плечу Романа и, обращаясь к товарищам, добавил: – Андрей, останешься с Романом. Мы же поспешим в Темников.
Было совсем темно, когда, наконец, отдышавшись, Роман подошел к поверженному врагу.
«А надо ли было убивать его? – размышлял Роман. – Был жив он, была цель, а теперь что мне делать? Христа ради просить не буду, а есть кусок хлеба чужой, так в горло не полезет. Как же жить дальше? Куда податься?»
2
Когда Мотя, Митяй и Савелий вошли в горницу, в которой лежал Поляк, то несказанно обрадовались: поддерживаемый дедом Пантелеем их товарищ прохаживался из угла в угол. Увидев застывших в дверях молодцов, Поляк просиял.
– Проходите, други мои! Рад видеть вас, а то забыли совсем болящего, глаз не кажете!
Мотя вопросительно глянул на Алёну, сидевшую подле окна, и, получив разрешение, перешагнул через порог.
Горница наполнилась суетой, смехом, гулким говором.
Отозвав Алёну в сени, Мотя, сбиваясь и глотая слова, торопливо поведал:
– По всему видно, пошел Долгорукий с войском на мужиков. Два дня назад воевода князь Щеличев побил отряд мужиков в селе Поя, а вчера в Мавлееве был бой. Более шести тысяч мужиков полегло, в полон многие попали, пушки, ядра, зелья, добра всякого множество взято воеводой было. И это еще не все: ноня у села Конобеева воевода Яков Хитрово разбил войско атамана Мишки Харитонова. Сам Мишка спасся. Сил поднаберет, грозился пойти на Шацк, воеводе отомстить за поруху.
– Откуда тебе то ведомо?
– Сам Мишку зрел и говорил с ним.
– Где?
– Тут, недалече, – чувствуя, что ненароком проговорился, смешался Мотя.
Алёна покачала головой.
– То-то Иринка меня спрашивала, не услала ли я тебя куда, а ты сам кренделя по уезду выписываешь. Иди позови мне Ивана Захарова, буду ждать его у Федора Сидорова. Сейчас иду туда.
Мотя убежал выполнять приказание, а Алёна, постояв немного в прохладных сенях, вошла в горницу.
– Вот что, молодцы, – сказала она приятелям, – завтра поутру всех раненых мужиков положить на телеги и отвезти к старцам в скит. Тебе тоже ехать, – кивнула она Поляку.
– Неча мне там делать, – затряс он головой.
– Поедешь. Мотю пошлю за старшего. Он тебя мигом угомонит. С этим все, – решительно махнула рукой Алёна. – А теперь идите отсель, погостевали – и будет. Мне поговорить с Поляком надобно.
Горница опустела.
– Случилось что? – тревожась, спросил Поляк.
– Да нет же, – улыбнулась Алёна. – Это я так, побыть с тобой хочу малость, чтобы никто помехой не был. Завтра тебе ехать… и не противься, – закрыла Алёна ладонью рот хотевшего было возразить Поляка. – Так будет спокойнее, для меня спокойнее, – добавила она. – Скажи мне, – прижавшись к нему, тихо заговорила Алёна, – что ты делать будешь, ежели меня не станет?
– Как это?
– Ну, ежели меня стрелецкая пуля уловит или сабля приласкает.
– Фу ты, о чем нашла говорить, – отмахнулся Поляк.
– А все-таки, – настойчивее спросила Алёна.
– Что с тобой, голуба моя?
– Со мной ничего, но ты так и не ответил мне.
Поляк задумался.
– Ежели и вправду свершится с тобой такое, то и мне не жить. Муки принимая в царевой темнице, дал зарок – не расставаться с тобой до самой смерти, а значит то, смерть твоя – моя смерть. Знай об этом и береги себя, – последние слова он прошептал в самое ухо Алёны и поцеловал его.
– Знаешь, Поляк, грустно мне, тревожно. Я как-то была наездом в Княгинино, там ведунья одна на глаза пала. Попросила я ее, чтобы погадала. Нагадала она мне любовь жаркую, жизнь бурную, смерть страшную. Верить в гадание ее я не верю, а все-таки грустно. Прошло время, и я теперь понимаю, что ты был прав, когда говорил, что нам не осилить царских воевод. Я не отрекаюсь, нет, – заторопилась Алёна. – Мужиков я не оставлю и общую чашу изопью до дна. Не раз видела я, как бьются мужики: им много недостает. Они могут побить стрельцов и раз, и два, но победить их не смогут. Вот если бы Русь поднять, всех мужиков под одну руку поставить…