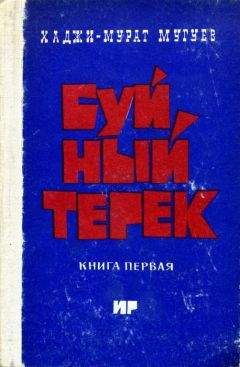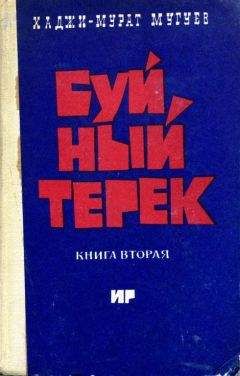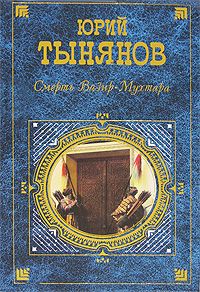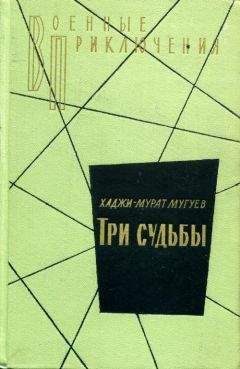— Да, да, Сеня. Это как раз то, что я хотел рассказать тебе. На казацкой линии мы похитим ее и увезем в надежное место…
— Александр Николаевич, — испуганно оказал Сеня, — ведь опасно… Не дай бог, узнают… не миновать тогда серой шинели.
— Молчи, Сеня. Поздно теперь говорить об опасности… Как я сказал, так и будет. Не могу же я оставить Нюшеньку в беде, а ты что боишься?
— За вас, Александр Николаевич. За себя у меня и думки нету. Как скажете, так и сделаем. В огонь, в воду, на нож пойду… За вас страшуся… Ведь за вас все наши мужики и бабы молятся. Мамаша моя, ваша кормилица, жить мне не даст, ежели, спаси бог, беда приключится… Вот я об чем думаю, Александр Николаевич, — взволнованно сказал Сеня.
— Пустое, Сеня, ничего дурного не будет, а сделаем хорошее — спасем человека, — убежденно сказал Небольсин.
— Дай-то господь! — перекрестился Сеня.
Савка, вначале неодобрительно поглядывавший на него, просиял:
— А я думал, браток, что ты отговаривать барина хочешь… Не бойсь, Сеня, украдем девку, ровно цыган коня, ищи потом ветра в поле…
— И искать не придется, — спокойно сказал Небольсин. — За Червленной в одной из станиц живет друг мой, с которым я еще в Ставрополе подружился…
— Это есаул-то казачий? — оживился Сеня.
— Он, он, тот самый, которого я тогда из беды избавил… Я из Червленной вперед уеду, уговорюсь с ним и в Науре увоз сделаем. А потом — к Терентию Ивановичу, за двадцать верст в сторону, лесом да кустами. На берегу Терека ее платок бросим, на другом берегу еще раньше конские следы на Чечню наведем. Поищут день, — оказия дело казенное, в точности приказом рассчитанное, — а в назначенный час двинутся дальше на Моздок. Поживет Нюшенька в чулане у есаула неделю-другую, а потом, когда Голицын уже в Ставрополе будет, я за нею приеду… а там, — махнул, улыбаясь, Небольсин, — Тифлис и другая жизнь.
— Ох, хорошо бы, барин Александр Николаевич, кабы все так вышло, — довольным голосом сказал Сеня, — и дело доброе б сделали, и душой успокоились. Разве ж я не видел, как вы мучились эти дни…
— Скоро все кончится, Сеня, другая жизнь будет.
— Будет, ваше благородие, обязательно будет, — убежденно сказал Савка. — Кабы не эта думка, дня бы не прожила сестрица. А теперь, батюшка Александр Николаич, я домой пойду, боюсь, как бы этот окаянный Прохор не хватился!
— Иди, Саввушка, да осторожно расскажи о моем плане и отцу, и самой Нюшеньке.
— Не бойсь, батюшка барин, не проболтаюсь. Мышь — и та ничего не услышит.
Савва ушел.
— Лез афер тре дифисиль![84] — начал по-французски Сеня. — Помог бы только бог нам в этом, Александр Николаевич, — неожиданно перешел он на русский. — Ну да делать нечего, будь что будет, а девушку надо спасать.
— Да, Сеня, будь что будет, а мы спасем ее!
— Разрешите войти, вашбродь? — громко произнес Елохин, останавливаясь у самых дверей комнаты.
— Войди! — разрешил Небольсин.
— Вашбродь, младший унтерцер Елохин Александр в ваше распоряжение прибыл! — прижимая левой рукой к груди фуражку, выкрикнул Елохин.
— Вольно, — подходя к солдату, сказал поручик. — Итак, здравствуй, Елохин! Ты, верно, знаешь, зачем я вызвал тебя?
— Так точно, вашбродь. Фельдфебель объяснил, для переводу в Тифлис и сопровождения туда вашего благородия, — все еще вытягиваясь «во фрунт», ответил Елохин.
— Да что ты тянешься, словно на параде! Я ж тебе сказал «вольно», ну, садись, — кивнул на табурет Небольсин, — и держись проще, мы ж с тобой не в строю и не на походе. Сколько тебе лет, старина?
Присевший на кончик табурета Елохин вскочил.
— Сиди, сиди… Оставь это!
Елохин снова сел.
— Сорок пятый пошел, вашбродь В марте конец службы. Все двадцать пять годов кончатся.
— Ишь ты какой… большой путь прошел. Небось и повоевал немало?
— Всего было, вашбродь, и плохого, и хорошего… Всякого навидался. И в Ерманию ходил, и с французом воевал, и в Париж-городе был, всего хватило.
— Ты что ж, старина, в Отечественной участвовал?
— Так точно. С Наполеонтием, и под Бородином, и под Смоленском, и на Березине, а там уж и по всем заграницам ходил. Я в те поры, вашбродь, молодой был, у генерала Дохтурова служил, а опосля у его превосходительства генерала-майора Давыдова в посыльных ординарцах.
— У Дениса-партизана? — перебил его Небольсин.
— Так точно, у них самих, — потеребив длинный обкуренный ус, с достоинством сказал Елохин, — дюже добрый, веселый и храбрый был генерал. А что, вашбродь, живы они таперь али нет?
— Жив-здоров, говорят, к нам на Кавказ собирается в скором времени.
Глаза Елохина оживились.
— Вот бы хорошо! Дай им бог здоровья! Денис Васильевич хороший был барин, солдата уважал, и те его дюже любили.
Небольсин с интересом слушал старого солдата, свидетеля тех великих событий, о которых сам он знал лишь по рассказам.
— Ранен?
— Два раза, вашбродь, один — под Бородином, когда их сиятельство князя Петра Иваныча убило…
— Багратиона? — тепло, с невольной дрожью в голосе спросил поручик.
— Так точно. Их самих. Я в ту пору возле них находился. Мы французскую атаку штыком отбивали. Дюже сильно шли французы, в пятый раз за день на штурму шли. А антилерия и иха, и наша такой огонь открыла, аж вспомнить страшно. Одно — дым, огонь, грохот. А второй раз, это уже в Франции, коло самого Парижа зацепило. — И он показал на шрам, тянувшийся через голову возле левого уха.
— Ну так вот, старина, не хочу неволить тебя, решай сам, ехать тебе в Тифлис или нет. Я уезжаю туда, какая там жизнь, не знаю, но, конечно, получше, чем здесь.
— А чем придется там быть, вашбродь? — осторожно спросил старый солдат.
— Если я буду в городе, то и ты станешь дослуживать свой срок унтером там же, где буду и я, если ж назначат в полк, то унтером в моей роте.
— Та-ак… — раздумчиво произнес Елохин. — Ну а как, вашбродь, опосля того, как окончу службу, вчистую выйду, как тогда?
— Ты — крепостной?
— Так точно. Был до службы дворян Колычевых, с под Тулы. Ну а теперь, опосля двадцати пяти годов, кто его знает чей. Моих бар, наверное, и на свете-то нет, а к новым идти на старости лет неохота.
— А что ты думаешь делать? — спросил поручик.
— Да вот наслышан я, вашбродь, быдто тем старослуживым, кто верой и правдой двадцать пять лет царской службы отслужил, а я, вашбродь, и унтер, и егорьевский кавалер, то быдто им разрешено селиться в том крае, в Тифлисе, — пояснил он, — вольными, жениться и землю пахать, аль чем другим заниматься, чтобы русское, значит, жительство этим укреплять. Правда это, вашбродь?
— Да, по особому ходатайству перед главнокомандующим некоторых старослуживых оставляют на вольном поселении в Грузии.
— Вот-вот, вашбродь. Коли б и вы похлопотали обо мне, я с охотой пошел бы с вами, вашбродь!
Небольсин подумал.
— Единственное, что могу тебе обещать, это то, что после окончания твоей службы похлопочу перед главнокомандующим. Но что из этого выйдет, сказать не могу.
— А я, вашбродь, только об этом и прошу. Невжели ж откажут старому солдату опосля его отставки? Разрешат!
— Буду просить генерала. Вот это я тебе, Елохин, твердо обещаю.
— Покорнейше благодарю, вашбродь. В таком разе согласен, еду с вами, а ежели сделаете, вашбродь, ослобождение мне после службы, век за вас бога буду молить и верней слуги себе не найдете, — с чувством сказал Елохин.
— Спасибо на добром слове. Сделаю все, что могу, а теперь иди и готовься к отъезду. Оказия выходит послезавтра.
Вечером Санька Елохин зашел к своему другу ефрейтору Кутыреву. В низенькой хатенке Кутырева было тихо. Хозяйка и сам Кутырев сидели за столиком. Ефрейтор чинил обувку для детей, мерно постукивая молотком, забивая шпильки и гвозди, хозяйка штопала бельишко, а двое детишек, чинно сидя в углу, играли в какие-то самодельные куклы.
— Вот и хорошо, что припожаловал. — Кутырев с удовольствием отложил в сторону дратву и шило.
— Вечер добрый, хозяюшка, — усаживаясь у стола, сказал Елохин. — А вы как, ребятишки? — обратился он к примолкшим детям. — На вот, тезка, делись с сестрой. — Елохин вынул из кармана скомканный и помятый кусок купленной в ларьке халвы.
— Ну зачем это таким пострелам, им бы, шалопаям, розог… — довольная вниманием гостя, с деланно-смущенным видом сказала хозяйка.
— Ничего, кума. Детям сладкое требуется, потому малые они еще, неразумные, — ответил Елохин, вытаскивая из кармана два куска желтого тростникового сахара, полбутылку водки и четыре вяленые тарани, и объявил: — Еду! Выпьем за Тифлис, братцы! Послезавтра отъезжаем.
— Дай Христос помощи и добра. Может, бог даст, там лучше будет. Вчистую уйдете, свободу получите, жену заведете, — затараторила хозяйка.