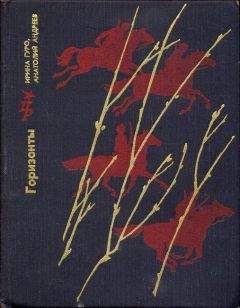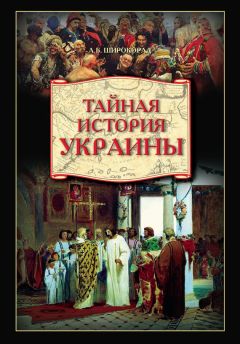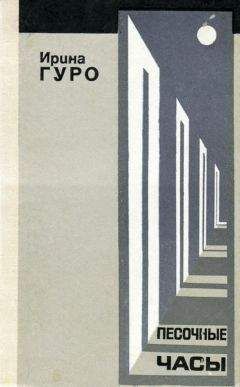Они произносили по-украински, и орловским говорком, и тамбовским, и другими одни и те же слова: «подработать», «подхарчиться», «смотаться», «смылиться», «ушиться». Их внешней приметой, как бы символом, был сундучок, обыкновенный фанерных! самодельный сундучок. Неотъемлемая принадлежность «летуна». Этим словом народ окрестил жадного до «длинного рубля» и жирных харчей, предприимчивого мужичишку, который нигде не оставался подолгу, набивал карман и устремлялся дальше. Это был в основном поток из деревень в Донбасс на шахты, где платили денег много больше, чем где бы то ни было. Он устремлялся в Донбасс по осени и весной отливал, оставляя рабочее место легко и бездумно, — что оно для «летуна»? Для рвача! — «Або дай, або выдэру!»
С этим нельзя было бороться «сверху». «Летуна», рвача, шкурника не брал никакой циркуляр, никакое постановление самой высокой инстанции.
Покончил с ними сам рабочий класс Донбасса под руководством коммунистов. Они создали на шахтах атмосферу нетерпимости к шкурникам, условия выталкивания их из рабочей среды. Они повели работу среди тех, кто пришел в Донбасс с одной мыслью о «длинном рубле», но изменился, переварился в рабочем котле, стал в строй творцов, а не наймитов.
Это было великое достижение — создание стабильных пролетарских кадров Донбасса.
То, что стахановский рекорд родился именно на шахте «Центральная-Ирмино», ничем до сих пор не замечательной, некоторым казалось неспроста. Высказывались такие мнения, что вот, мол, люди втихаря, молчком примеривались, готовились и — бац! — 102 тонны угля за шестичасовую смену! И где такое? На Центральной-Ирмино, где сроду первых мест по добыче не держали. И кто такой? Алексей Стаханов? И не слыхивали про такого. А все потому, что без шуму, промеж себя прикидывали…
В действительности же никаких «секретных приготовлений» не было. Дело обстояло и проще, и сложнее.
Проще потому, что было найдено решение производственной задачи не локальное, а универсальное, то есть не только для данного случая, эффект был достигнут безоговорочный и всеобщий. Сложнее — потому, что решение это было результатом долгой и вдумчивой работы, включавшей в себя не только техническую подготовку, но и психологическую…
А между тем уже светало на востоке и неудержимо, как волна на низкий берег, накатывал новый день. Тут, в вагоне, он начинался для него, как всякий другой деловой день, докладом поступивших за ночь телеграмм, обзором газет и сводками выполнения планов.
Планов, неуклонно подвигающих Советскую Украину вместе со всей страной к вершинам социализма.
Встречая на вокзале секретаря ЦК вместе с другими руководящими работниками области, Василь Моргун никак не рассчитывал на то, что его личное свидание со Станиславом Викентьевичем состоится вообще, тем более вскоре после приезда Косиора. Василь предполагал, что он увидит его на пленуме обкома, на котором он, Моргун, будет присутствовать как член бюро обкома и начальник областного управления НКВД. Он готовился к пространному выступлению на пленуме, так как положение на шахтах внушало некоторые опасения. Это были незримые для обычного глаза и выявленные только профессиональным путем процессы, о которых он сигнализировал партийному руководству. Он хотел в присутствии секретаря ЦК привлечь к ним внимание.
Но получилось иначе: Малых, который уже успел побывать у Василя дома, позвонил ему на службу поздно вечером:
— Василь, я к тебе пока неофициально. Есть такое предположение, что Станислав Викентьевич заедет к тебе на службу. Он сейчас у секретаря обкома. Значит, на обратном пути. Так что ты пока — никуда…
— Да что ты! Я и не собираюсь. У меня Киев на проводе в двадцать четыре часа. А ты как? Заедешь?
— Как обстоятельства. Я хотел тебе еще сказать: я рад, что у тебя так хорошо все сложилось. Я имею в виду с Еленой.
— А… Ну еще при встрече поговорим, как все вышло.
— Как бы ни вышло, важно одно: ты счастлив.
— Да-а-а… Конечно. Так я буду ждать.
— Если почему-либо отменится, я просигнализирую тебе отбой.
Но встреча не отменилась. И вот они вдвоем в кабинете Василя за чаем, поданным секретарем.
— Ты об отце знаешь, Василь?
— Он приезжал к нам прошлым летом. Сказал, что скучает по Донбассу.
— Просится сюда, в родные места, в шахтерский край. Мы приняли решение послать его в Донбасс на партийную работу. Так что будешь еще под его рукой ходить…
— Ну, батя!.. — выдохнул Василь.
— Что ж, он правильно рассудил: где сейчас пик наших интересов? Стратегический узел? Промышленность. Теперь, когда товарный хлеб идет не от кулака, а от колхозника. Ты же знаешь: на той стороне наши недруги уже перестроились, уже нацеливают свои штабы. Мне понравилась прямота некоторых высказываний. За рубежом, например, газеты писали, что Стаханов положил начало самому выдающемуся в истории движению в области рационализации. И еще интересно: появился такой термин у них — «пораженец капиталистического строя». И вот эти «пораженцы», они оперируют ссылками на стахановское движение. И во всем этом есть еще один аспект: раз так, раз идет усиление Советов, значит, надо готовить удар. Так получается.
— Я много думаю о войне, Станислав Викентьевич, — даже, можно сказать, всегда о ней думаю.
Косиор поднял голову, смотрел выжидательно. И Василь досказал:
— Я, знаете, когда весь как-то повернулся к этой мысли, к этой опасности? После того, как побывал на той стороне. Вот уж пятый год пошел, а во мне живут все детали. Вижу все извивы змеиного клубка. Такая неизбывная жажда реванша — как может она не вылиться в открытую схватку?
Косиор искоса смотрел на возмужавшее лицо Василя, в котором с годами проявилось что-то очень близкое отцовскому облику. Странно, ведь Иван Моргун и смолоду был вовсе не таков, как этот наследник… Был схематичнее, что ли. Казалось бы, это поколение, поднявшееся уже после революции, должно было быть проще, свободнее. Но нет, сознание их усложнено, многослойно, и беспокойство их, оно тоже — от современного нашего положения в мире, от длящегося одиночества страны…
Так бегло, не очень ясно подумалось, когда он медленно ответил Василю:
— В одной из ленинских работ двадцатый век назван веком «разнузданного империализма». Разнузданная погоня за рынками сбыта, разнузданная свалка в борьбе за колонии. Конечно, мы всеми способами отталкиваемся от войны, нам нужен мир, как хлеб, как воздух, и все же нет гарантии…
Он помолчал, раскурил трубку и дополнил:
— Мы живем в стадии передышки. И это тоже определяет положение здесь, в Донбассе.
— Наверное, и трудности именно нашей работы тоже отсюда, — быстро сказал Василь, и что-то горькое и уже немолодое тенью скользнуло по его лицу.
И тотчас отозвалось в Косиоре пониманием: как было ему свойственно, он на короткий миг словно бы перевоплотился в этого молодого еще, но уже принявшего на свои плечи государственное бремя, в сложной обстановке, в сложную пору, с не очень счастливой судьбой. Впрочем, почему же?.. У него милая жена, сынишка. И, если мыслить по обычным канонам, неужели мимолетная встреча с той девушкой оставила глубокий след, а гибель ее — незаживающую рану? По канонам должна была зажить. Но жизнь ломает каноны. Он остро почувствовал это, как и то, что в их разговоре присутствовало воспоминание о Софье. И вот прошло уже пять лет, и они оба изменились, и все изменилось вокруг них, а Софья осталась такой, как была. Какой сидела тогда у него в кабинете, с этим характерным выражением отваги и решимости на лице…
В тот же миг он ясно увидел, что Василь думает о том же, и так же ясно понял, что оба не скажут ни слова на этот счет. Но было вполне естественно, что всплыло нечто близкое к этому воспоминанию:
— Станислав Викентьевич, помните ли вы историю Семена Письменного, которого убили на Старобельщине?
— Конечно. Я знал Письменного. Потом это убийство фигурировало в суде по делу Рашкевича и всей банды.
— Там имелось еще одно обстоятельство: у Письменного была любовь с девушкой из монастыря. Мы еще через нее узнали автора антисоветских листовок, адвоката.
— И адвоката помню. Его, кажется, осудили?
— Да, это, в общем, было одно разветвленное дело. Но я не о нем. Я об удивительной человеческой судьбе. Эта монашенка Ефросинья Найденова — ей эту фамилию дали в монастыре, как подкидышу, — эта женщина здесь…
Они помолчали. Косиор спросил:
— Ну, а ты счастлив? Я же знаю твою Лену, работал сее отцом в Донбассе. Кажется, сын у нее?..
— Есть сынок, он совсем кроха был, когда мы поженились, так что я отец по всей форме. А сейчас ждем еще… Может, девица получится…
Станислав Викентьевич оживленно сказал:
— Знаешь, я когда женился на Елизавете Сергеевне, у нее ведь была уже Тамара… Ну а потом появились у нас Володя и Миша. И я очень радовался, что в семье уже есть девочка. Наверное, это хорошо, когда не одни мальчишки растут! Впрочем, я надеялся, что она на них все-таки будет облагораживающе действовать, а оказалось, они ее обработали, разбойничают вместе! Но ты не ответил на мой первый вопрос.