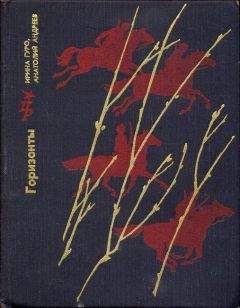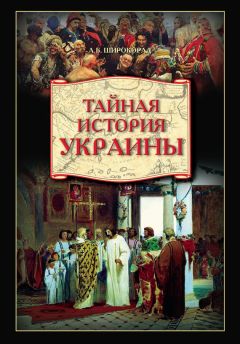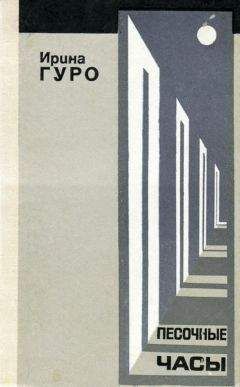— Есть сынок, он совсем кроха был, когда мы поженились, так что я отец по всей форме. А сейчас ждем еще… Может, девица получится…
Станислав Викентьевич оживленно сказал:
— Знаешь, я когда женился на Елизавете Сергеевне, у нее ведь была уже Тамара… Ну а потом появились у нас Володя и Миша. И я очень радовался, что в семье уже есть девочка. Наверное, это хорошо, когда не одни мальчишки растут! Впрочем, я надеялся, что она на них все-таки будет облагораживающе действовать, а оказалось, они ее обработали, разбойничают вместе! Но ты не ответил на мой первый вопрос.
— Так ведь это сложно, Станислав Викентьевич. Счастье, оно, как радуга, — многоцветно…
— И не все цвета обязательно в нем присутствуют — хочешь ты сказать? Во всяком случае — одновременно?
Оба рассмеялись, понимая, что тема эта ими исчерпана. А про себя Косиор подумал, что его любовь с Елизаветой — это же была буря! Они оба были так молоды, и оба в таком вихре событий, столько трудного, тяжелого вместе пережито. И письма его из тюрьмы, потом из ссылки — в них разворачивалась вся его жизнь. А ответные письма, как освещали они его существование!..
Ничего подобного, конечно, у Василя не было. Да, времена другие, но ведь и бури могли быть другие…
«А в нем появилось что-то новое, — в свою очередь думал Моргун, вглядываясь. — Страстность? Одержимость? Так это и раньше было… Победительность!»
Победительность последних лет озаряла по-новому облик Косиора. Сейчас лицо его было усталым, но одновременно и оживленным. Ему было свойственно такое сочетание: физической усталости, которая выявлялась разве только темными кругами под глазами и чуть опущенными уголками губ, очень выразительных. И вместе с тем — оживление: оно излучалось во взгляде широко открытых глаз, быстром и как бы впитывающем в себя окружающее. И в речи… Василь особенно остро чувствовал, что каждый вопрос Косиора вызван подлинным его интересом, более значительным, чем могло показаться сначала. Поэтому нельзя было отвечать ему просто, однозначно.
Когда Станислав Викентьевич спросил, доволен ли Василь своей работой, тот, не задумываясь, ответил, что да, доволен, и пояснил: если уж ты сам не создаешь материальные ценности, не строишь, не добываешь уголь, не монтируешь станки, то ведь охранять труд тех, кто строит, добывает и собирает, — это тоже надо…
Ему самому не понравилась форма его ответа. Хотя он думал именно так, но это было неполно, не отражало целиком его отношения к работе. А ведь Станислав Викентьевич спросил не просто так. Он никогда не спрашивал просто так…
И Василь добавил:
— Наверное, я не так выразился. Кроме того, что «надо», тут есть еще другое: уже не только оттого, что овладел суммой профессиональных навыков, а от увлеченности… — Он почему-то застеснялся этого слова и добавил буднично: — Оттого, что втягиваешься в дело.
Косиор сидел в углу дивана, привалившись к спинке, расслабясь, как умеют расслабиться, отдыхая, спортсмены.
— А тебе помог твой поход на ту сторону? — спросил он, и Василь по легкому нажиму на слово «тебе» понял, что имеется в виду. Делу поход, конечно, здорово помог. Это-то Василь точно знал. А ему самому? Он не ставил себе этого вопроса и не был к нему готов. Поэтому ответил, затрудненно, подыскивая слова, но все же находя их:
— Я увидел противника в лицо. Можно сказать, давнего своего противника, потому что к этому времени я уже не один год работал против украинских националистов. Увиденное мне дало не только ясность того, что я познавал по документам. Оно дало другое: понимание большой сложности, большой опасности… Я бы сказал такой фразой: нет никакой специально украинской специфики — фашисты как фашисты. И подумалось: это еще не вечер. И на мою долю еще придется… Знаете, как в народе говорят: «На вийну йдучи по чужу голову, й свою неси».
— Иначе говоря, несколько упрощая: ты стал думать, что впереди будет еще более сложная и кровавая борьба?
— Да, так. Теоретически это я всегда знал. Но ощутить собственной кожей — совсем другое дело.
— Знаешь, что ты ощутил, как ты говоришь, позже? Ты ощутил непримиримость, несовместность двух миров, не в том смысле, что невозможно сосуществование. Оно возможно, и на этом основан и еще долго будет основан наш расчет. Несовместимость — это по другому слою. По слою глубинного залегания, так сказать… Ты что, курить бросил? — вдруг спросил Косиор.
— Бросил.
— Ну и правильно. Я, видишь, тоже сократился на этот счет. И знаешь, без особых терзаний. А насчет несовместности я тебе вот что еще скажу. Если бы над нами не висел дамоклов меч большой войны, мы, может быть, дали бы себе немного передохнуть, не так бы размахались… Но нельзя нам остановиться, нельзя сдать темпы! Вот так все подошло, так все исторически сложилось, что сейчас сдать темп — равносильно измене, все равно что предать идею! А темпы наращивать нельзя за счет одного понимания этого, на одном энтузиазме. То время, когда голыми руками гнули железо, кончилось, и освоение техники — это уже не только задача экономическая, но и политическая, потому что здесь затронуты кардинальные вопросы существования государства. Но это и нравственная задача, потому что пренебрежение техникой, недооценка ее — это что же? Это значит — остановка в движении. Во вред делу, во вред классу. А то, что вредно для нашего дела, то безнравственно.
Слова, которые он произносил, несколько книжные, собственно, ничего нового не открывали Василю. Кроме одного: того, что секретарь ЦК был сейчас на этих мыслях сосредоточен. Но ведь Василь тоже об этом думал, но не столь отчетливо.
«А ведь он помнит еще старый Донбасс. Современная техника для него внове», — подумал Василь.
И, словно угадав его мысль, Косиор продолжил:
— Для меня тут все по-особому. Я воспринимаю сегодняшний день в сравнении, в сопоставлении… Вот будто встретил после долгой разлуки старого друга. Конечно, вспоминаешь его молодым, и картины молодости проходят перед тобой, даже если это было тяжкое время. Молодость-то все скрашивала… И вот, представь себе, тот же вруб… Ну, ты теперь знаешь, что это такое. Так вот я помню, как забойщик рубал киркой или обушком, только так. И для силы удара и сохранения его направления забойщик наносил удар чаще всего лежа. Понимаешь, привычная поза углеруба — лежа и с обушком в руке. Когда я впервые в жизни увидел рабочего человека с орудием его труда в этой неудобной, противоестественной, мне показалось, позе, во мне все встрепенулось… Мне рабочий всегда являлся как хозяин положения у своей машины, у своего станка. А здесь — нет, здесь он копошился под землей, как раб, и самое это положение его, и еще слово «законуриваться», «конура» — понимаешь?.. Это мне виделось как унизительное, не только тяжелое, но и унизительное. И оно входило во всю систему гнета, которая включала в себя и унижение. Унижение — тоже. Конечно, это было чисто субъективное впечатление, но стойкое. Очень стойкое. Я думаю, что в малопроизводительном труде есть нечто унижающее человека. Огромная затрата мускульной энергии при ничтожном результате… Поэтому Стаханов — явление нашего времени, когда рабочий овладел техникой. Его энергия, энергия умельца, направлена на максимальное использование техники. Эта азбучная истина содержит в себе несколько слоев. В том числе опять-таки нравственный. Воспитывается человеческая гордость, уверенность в своем могуществе и в том, что ему нет предела, поскольку у нас в государстве нет предела развитию техники. Сила человека довольно легко исчерпывается, сила техники — никогда. Это-то и вдохновляет. И раздвигает горизонты…
Проводив Станислава Викентьевича, Василь не вернулся к делам. И не поехал домой. Неловко, боком присев в кресле, он так и остался сидеть, словно боялся разорвать хрупкую нить потянувшегося за разговором воспоминания…
Весть о гибели Семена ошеломила его. Но тотчас возникшие обязательства придавили, притупили остроту горя. Была создана комиссия для расследования, и в ее составе Василь должен был выехать в Старобельск. В ночь перед отъездом он освободился поздно и нельзя было уже ехать к Ефросинье. Он подумал: а вдруг она в городе, в железнодорожном поселке, у Марьи Петровны? Василь попросил дежурную машину и поехал.
Поселок спал, не светилось ни одно окно в его домишках, и, наверно, это было глупо — рассчитывать на такой случай: не каждый день ведь бывает Фрося в Харькове, да еще ненастной осенней порой. Но он уже не мог повернуть обратно и выскочил из машины перед знакомым палисадником. Знакомо скрипнула калитка, и Василь подумал, с какими чувствами обычно открывал ее Семен. Ему захотелось повернуть время вспять: чтобы не было этой ночи, не было этой вести. Но уже ничего нельзя было вернуть, и на одну минуту, одну только минуту смятенности, когда он стоял под окошком и не решался постучать, он пожелал, чтобы Фроси не оказалось в доме. Он тут же устыдился своего малодушия. Он не мог уйти от своего последнего долга перед другом. И постучал.