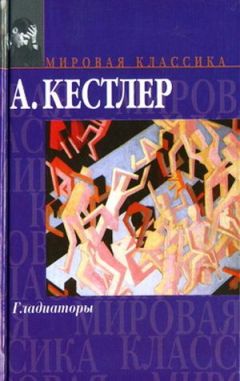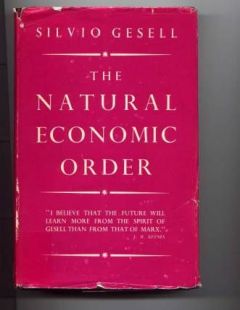Выше по течению, где у следующего речного изгиба разбил лагерь авангард армии, стучали молотки. Свежая партия крестов еще не была сколочена, и ста пятидесяти обреченным приходилось ждать. Длинный ряд людей, связанный веревкой, ждал смерти безучастно, не отрывая глаз от желтых вод реки; с виду они уже почти перестали быть людьми. Некоторые раскачивались и стонали, некоторые причитали, некоторые уткнулись лицом в землю, некоторые раздирали на себе одежду и бесстыдно раздражали свою плоть, словно замыслив лишиться сил и умереть еще до распятия.
Старый Никос несвязно бормотал. На него еще не пал жребий, но из-за слепоты солдаты оставили его с двумя его поводырями.
— Благословенны отрекающиеся от себя и гибнущие от рук зла и порока… — лепетал старик.
Эссен, сидящий с ним рядом, улыбнулся и покачал круглой головой.
— Те благословенны, кто берет меч, дабы покончить с властью Зверя, те, кто строит каменные башни, дабы добраться до небес, те, кто лезет вверх по лестнице, желая сразиться с ангелом, ибо они суть истинные Сыны человеческие.
Стук молотков стал слабее: работа близилась к концу. Рядом с хронистом Фульвием сидел крестьянин из Калабрии, жалкий человечек со спутанной бородой и добрыми выпуклыми глазами. Он жевал сорванный где-то по пути салатный лист, откликался на имя Николао и торопливо рассказывал Фульвию о своей корове Юно, которая уже собралась телиться, когда пришли солдаты, утащили его жену и подожгли новую крышу его амбара. Он прервал свой рассказ, чтобы предложить защитнику салату и спросить, не думает ли он, что солдаты их сперва покормят.
Фульвий откашлялся.
— Лучше уж на пустой желудок, — сказал он хрипло.
В памяти всплыл незаконченный трактат и пергаментные свитки с хроникой, отобранные у него молодым римским офицером. Смерть была ему почти безразлична, но очень пугало то, что будет предшествовать смерти, к тому же беспокоила судьба пергаментных свитков.
Стук стих окончательно; солдаты в латах подняли первый десяток в ряду. Вскоре оставшиеся сидеть на берегу снова услышали мерный стук молотков, приближающийся с каждой минутой, но уже не такой резкий, зато сопровождаемый нечеловеческими выкриками. Сто сорок связанных тихо сидели рядком и прислушивались.
— Благословенны гибнущие от руки порока… — лепетал старый Никос. — Башни, построенные людьми, рушатся, ангел карает дерзкого, полезшего вверх по лестнице, рассечением бедра. Благословенны служащие и не сопротивляющиеся.
Ему никто не ответил. Немного погодя солдаты увели следующую десятку. Защитник Фульвий, эссен и лупоглазый крестьянин находились теперь ближе к краю, в десятке, которую должны были забрать следующей. Эссен покачал головой.
— Горе тому, кто слышит Слово. Он должен нести его и служить ему по-хорошему и по-плохому, пока не сможет передать его дальше.
Тщедушный калабрийский крестьянин поспешно досказывал про корову Юно, боясь не успеть. Прервавшись на полуслове, он спросил, кусая салатный лист:
— Тебе не страшно?
— Любой боится смерти, — ответил ему защитник Фульвий, — только всякий по-своему. А когда приходит время, страх забывается. Ведь сначала человек чувствует только боль, а значит, думает только о себе, а не о том, что умирает; а потом, перед самой смертью, он забывает о себе. Никто не может чувствовать одновременно то и другое — смерть и самого себя.
Бородатый крестьянин яростно закивал. Он не понял ни слова, но ему хотелось верить Фульвию, потому что его речи успокаивали. Сам же хронист Фульвий думал и про то, что с ним сейчас произойдет, и про свои утраченные свитки. Век мертворожденных революций подошел к концу, сторонники справедливости потерпели поражение, силы их были истрачены зря. Ничто теперь не могло помешать алчущим власти, ничто не препятствовало воцарению деспотизма, у народа не осталось никакой защиты. Обладатель самой жестокой хватки мог теперь вознестись на неслыханную высоту, стать диктатором, императором, богом. Кто первым достигнет желанной цели: солдат Помпей, трибун Цезарь, банкир Красс, святоша Катон? Фульвий помнит их всех, ему ли не знать, какими становятся народные герои, когда борются за теплое местечко, как тащат друг дружку на расправу в Комиссию по шантажу, как занимают деньги на игры, стремясь к популярности, как обращаются к сенату — белые, накрахмаленные, каждый что памятник самому себе! В вышине сияет солнце, внизу течет река, руки его связаны, тщедушный крестьянин под боком лихорадочно лепечет про корову Юно, первый в ряду, чернокожий, сидит бесстыдно оголенный. И не замрет солнце в небе, не опустится с облаков лестница, никуда не деться от того, что происходит здесь и сейчас. Только круглоголовый знай себе улыбается.
— Написано: дует и стихает ветер, и не оставляет следа. Приходит и уходит человек и не ведает он ни о судьбе отцов своих, ни о будущем семени своего. Падает дождь в реку, течет река в море, но море не переполняется. Все суета.
Глаза чернокожего закатились, он обессиленно прикрыл свою наготу, упал наземь и рычит, и молится угрюмым богам своей страны.
— Это не утешение, — молвил хронист Фульвий, охрипший от страха, потому что уже видел, как к ним направляются солдаты, одетые в железо.
Ночь на дворе, еще не прокричал петух.
Но Квинт Апроний, первый писец Рыночного суда, давно привык, что служивые люди должны вставать до петухов. Он со стоном нашаривает ногами сандалии на грязном полу. Опять сандалии встали задом наперед, назад носками! За двадцать лет службы ведьма Помпония так и не научилась правильно выставлять его обувь.
Он тащится к окну и смотрит вниз, в воронку внутреннего двора. Вот и она, старая, костлявая, растрепанная, ползет вверх по пожарной лестнице. Вода, которую она ему приносит, чуть теплая, завтрак тошнотворен — второе оскорбление подряд, хотя утро только началось. Сколько еще оскорблений наберется, долго ли еще терпеть?
Он вспоминает Дельфинов, становившихся когда-то вершиной дня; но и это удовольствие было испорчено, когда рухнули надежды стать официальным протеже судьи. Теперь, входя в мраморный зал, Апроний всякий раз чувствует на себе недобрые, злорадные взгляды.
Он спускается по пожарной лестнице с трясущимися коленками, подобрав полу; он знает, что Помпония, не выпуская из рук щетку, наблюдает за ним сверху и ждет, что он зацепится краем одежды за ограждение… На замусоренной улочке позади дома уже не так темно из-за проклевывающейся зари; мимо него с лязгом и гиканьем катят свои тележки молочники и зеленщики.
Там, где прилавки с благовониями граничат с рыбным Рынком, он встречает отряд рабов, которых гонят на стройку. Рабы снова закованы в кандалы, как во времена Суллы, лица их мрачны и непроницаемы, взоры полны ненависти. Апроний прижимается спиной к стене дома, дрожит, запахивается в плащ.
Наконец, зловещая толпа прошла мимо, и он может продолжать свой путь.
Его внимание привлекает деревянный щит с намалеванным несколько дней назад новым объявлением. Сверху сияет алое солнце, под ним директор игр Лентул Батуат с гордостью приглашает досточтимую капуанскую публику полюбоваться небывалым представлением его новых гладиаторов. Далее следует список участников; гвоздь программы — единоборство галльского гладиатора Нестоса и фракийца Ореста. В антрактах в рядах будут разбрызгиваться благовония; билеты можно купить заранее у пекаря Тита и у распространителей, имеющих на то разрешение.
Апроний знает объявление наизусть. Качая головой и ругаясь себе под нос, он бредет дальше. Надежды на бесплатный билетик давно позабыты. Скоро он достигает места — зала в храме Минервы, где заседает муниципальный рыночный суд и где его поджидает следующее унижение — встреча с молодым коллегой, много лет отказывавшимся вступить в «Общество почитателей Дианы и Антония», а потом все равно избранным почетным председателем всего лишь из-за своей нелепой, зато модной прически… Тот, развязный, как петух, расхаживает по залу, раскладывает документы, гоняет курьеров и слуг. Когда появляется, наконец, сам судья в окружении помощников, он кидается подставлять ему кресло, за что удостаивается благодарного кивка.
Идут слушания, противники обливают друг друга грязью, юристы машут рукавами тог, кипы документов растут на глазах — а Квинт Апроний сидит себе и тщательно ведет чуть дрожащей рукой протокол. Строки, выходящие из-под его пера, уже не так красивы, как раньше; миновала пора изящества его каллиграфии, предмета гордости, согревавшего душу.
В полдень пристав объявляет, что слушания закончены. Апроний собирает написанное в стопку, говорит коллегам, что его ждут важные дела, и поспешно ретируется. Разглаживая складки на одеянии, он важно шествует в таверну «Волки-близнецы». Там он придирчиво проверяет, чиста ли его чаша, и отпускает неодобрительные замечания о качестве еды, на что хозяин реагирует с лицемерным ужасом. Поколебавшись и поворчав, он позволяет навязать ему второй кувшин вина — привычка, появившаяся не так давно. На худых щеках писца появляется легкий румянец. Он встает, смахивает с одежды хлебные крошки и отправляется в бани.