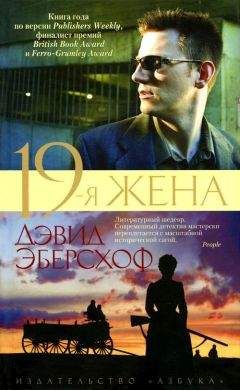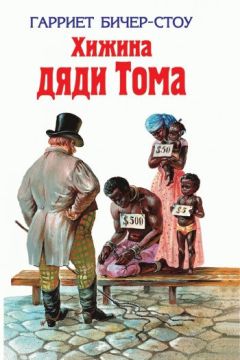— Думаю, настала пора взять новую жену. Почти год прошел.
— Ну, на этот раз он охотится не за тем турнюром, — возразила Эльмира. — Бригам последний из мужчин в Юте, за кого она когда-нибудь захочет выйти замуж.
— Так она говорит. А ты только посмотри на нее!
Без моих жен я не знал бы, как все это следует толковать. До дома нашей матери оставалось идти недолго, и я мог бы с уверенностью сказать, что было на уме у моих двух женушек: пригласит ли Энн Элиза Пророка поужинать с нами или нет?
Однако, прежде чем решение могло быть принято, рядом с ними неожиданно возникла мама.
Когда ужин закончился, Бригам попросил моего отца и меня уединиться с ним в мамином доме, чтобы кое-что обсудить. После недолгого разговора о майских травах и уровне воды в каналах Бригам перешел к обсуждению своей цели.
— Чонси, друг мой, я знаю твою дочь с младенчества. Я наблюдал, как она из ребенка становилась взрослой женщиной. Когда она встретила Ди, я пытался предостеречь ее, но она не хотела слушать. Я сам женился бы на ней, но я как раз недавно взял в жены Амелию. И как раз тогда Вашингтон пристально следил за мной, распространяясь о большом количестве моих жен. Время для еще одного брака было совсем неподходящее. Не могу выразить, как тяжко было мне знать, что тот человек так дурно с ней обходится. А ее мальчики — я хочу, чтобы они стали моими сыновьями. Я хочу, чтобы Энн Элиза стала моей женой.
Бригам упрашивал моего отца целых полчаса. Он и не подумал обратиться ко мне. Это не имело значения — я вовсе не хотел в этом участвовать. Свою просьбу Бригам завершил обещанием:
— Я буду хорошо к ней относиться.
— А как будут относиться к ней твои жены? — спросил его мой отец.
— Они ее полюбят. Когда она жила с ними, они ее приняли.
— Она говорит совсем другое, — вступил в разговор я. — Ей было там одиноко.
— Одиноко? — удивился Бригам. — В Львином Доме?
— Так она говорила.
— Неужели? — спросил отец.
— Она была очень молода. Это был ее первый опыт жизни вдали от дома, от матери. Еще бы ей не чувствовать себя одинокой! Но на этот раз — нет. С ней ведь буду я, с ней будут ее мальчики, и миссис Уэбб, если она пожелает, может приехать жить вместе с ней. Ты ведь знаешь, как глубоко я привязан к сестре Элизабет.
Мой отец раздумывал надо всем этим. Потом сказал:
— Наверное, тебе стоит теперь ее спросить.
— Сначала мне нужно, чтобы ты дал свое согласие. Если ей не нравится в Львином Доме, я помещу ее в хорошем доме, который будет принадлежать ей одной. Обставлю его по ее вкусу и назначу ей содержание в пятьсот долларов в год. У каждого мальчика там будет его личная отдельная комната. Я знаю, о каком доме говорю: он расположен недалеко от моего. Там позади дома — дерево с большой развилкой, где мальчишкам можно устроить детский домик. Я им сам помогу. Подумай об этом, Чонси. У твоей дочери будет муж, у твоих внуков — отец.
— Тебе нужно с ней поговорить, — повторил папа.
— Да, но как это все звучит для тебя самого?
— Я не могу больше рассуждать об этом, пока мы не спросили у нее.
— Давай, скажем, семьсот пятьдесят долларов. Этого будет достаточно?
— Я не знаю.
— Тысячу! Как тебе это?
— Брат Бригам, я не могу говорить за мою дочь.
— Конечно. Но ты можешь это порекомендовать?
— Я могу это только представить ей.
Наша беседа длилась целый час.
— Проводи меня до экипажа, — сказал мне Бригам после того, как она завершилась. У дороги Пророк стал расспрашивать меня о моей семье. — Сколько у тебя теперь детей? Десять? Одиннадцать?
— Двенадцать.
— Так много ртов! Мужчине это может быть тяжеловато. Я так понимаю, что ты все еще живешь на земле твоего отца и смотришь за его овцами?
— Верно.
— Надо бы, чтобы ты повстречался с удачей.
— Разве это не всякому человеку нужно?
— Сколько я плачу тебе за овец? — (Я рассказал ему о своем контракте с церковной скотобойней.) — Давай-ка улучшим условия, идет? Скажем, прибавлю доллар?
— Я был бы весьма благодарен.
Пророк положил руку мне на плечо:
— А теперь мне нужна твоя помощь. Ты скажешь сестре, чтобы она приняла мое предложение?
— Это хорошее предложение, — ответил я. — Только это не значит, что оно хорошо для нее.
Когда я возвратился в дом, папа уже рассказывал Энн Элизе о предложении Бригама.
— Боюсь, он и правда тебя полюбил, — сказал он.
— Он это сказал?
— По-своему.
— По-своему для него значит — полюбил одну женщину, потом другую, потом еще одну…
Тут в размолвку вмешалась мама:
— Энн Элиза, остынь. Ты ведешь себя так, будто он предложил запереть тебя на замок.
— А разве он не это предлагает? Разве не этого он хочет — чтобы я стала одной из сотни его жен?
— У него нет сотни жен, — возразила ей мама.
— Нет? А сколько тогда?
— Ну, довольно, — сказала мама. — Все, что Бригам позволил себе, — это сделать тебе предложение.
Энн Элиза приостудила свой пыл:
— Мама, я знаю: ты его любишь. И я его люблю — но только как моего Пророка, а не как мужа.
— Ты полагаешь себя умнее всех. Только это не так. Я ведь не слепая. У Бригама есть свои слабости. Но разве они затмевают то хорошее, что он успел сделать?
Я вышел в огород. У меня было не больше желания вернуться домой, к женам, чем снова участвовать в споре. Единственное место для меня, как представлялось, было здесь, на воздухе, в ночи. Луна стояла высоко, освещая дорожку к моему коттеджу. Мычали коровы, блеяли овцы, и ночь казалась пустой и шумной в одно и то же время. От гумна пахло рожью, из конюшни доносился запах прошлогоднего сена. Было холодно, и холод скопился в камнях дорожки.
Когда мои жены приветствовали меня у двери, я остановил их еще до того, как они начали расспросы.
— Не сегодня, — сказал я. — Только не сегодня.
Они предложили мне молока с печеньем, но я не был голоден и попросил женщин оставить меня одного. Они удалились в свои спальни — сначала на одной двери щелкнула щеколда, потом на другой. Наверху спали дети: четверо мальчишек поперек мормонского дивана, двое спеленатых малышек в колыбели, остальные разделились на две кровати. Я представил себя в будущем — лет через пять-шесть, с уже посеребрившейся бородой, с еще шестью или восемью детьми и, может быть, еще одной женой. Что могло бы остановить это — это ужасное видение моих будущих дней? Когда я думал о счастье, я представлял себе, как мой конь наклоняется к воде — напиться из ручья. Я думал о лугах, где шум — это всего лишь крики соек и беличий писк. Я думал о постельной скатке, разложенной под звездами. О том, чтобы свободно раскинуться под ночью и заснуть в одиночестве.
Я задремал в кресле, но меня разбудил лунный свет. Воскресная ночь — мой выходной от обеих жен, и я обычно спал в своей постели позади кухни, но сегодня мне не хотелось ложиться в той комнате. Я вышел из дому. Ветер разыгрался, нагоняя все больше холода. Легла роса, к рассвету она наверняка превратится в иней. В конюшне меня фырканьем приветствовал мой гнедой. В конюшне пахло сеном, навозом и водой от металлической поилки. Я взобрался на сеновал, обеспокоив курицу. Улегся на сено, подтянул под голову седло и набросил на грудь полосатый чепрак. Конюшенный котенок с поломанным хвостом на цыпочках прокрался по сену и вскарабкался на меня. Его лапки деликатно мяли мне живот, а погнутый хвост похлопывал меня по щекам. Какой-нибудь чужак мог бы подумать, что я рассорился со своими женами, раз отправился вот так спать на сеновал. Но я ни с кем не ссорился. Я просто очень устал, а котенок свернулся и подтянул свой хвост поближе к себе. Он был совсем маленький, ему недоставало молока, он совсем ничего не весил, уснув у меня на груди, и бочок его ходил вверх-вниз, вверх-вниз.
В следующий год обе мои жены подарили мне еще по одному ребенку. Сначала Эльмира, за нею Кейт. Мальчика и девочку. Я полюбил их — насколько может человек делить свое сердце между четырнадцатью детьми. Странное чувство возникает, когда приходится делить на доли нежность, — словно разрезаешь круг сыра. Я слышал, люди говорят, что сердце бездонно, но я с этим не согласен. Я люблю своих сыновей и дочерей, но в минуты просветления я признаю, что хотел бы давать им больше любви. И тут возникает еще одно странное чувство. Человек не предназначен для того, чтобы радостно встречать новое дитя чаще чем один раз в год. Однако в Дезерете мужчинам приходится приноравливаться. Ведь порой у тебя появляются двое в год. А если у тебя три жены, это может означать, что и трое. И оттуда все идет дальше и дальше. Я ощущал, что продвигаюсь в возрасте быстрее, чем мне следовало бы. У меня отвердел костяк, и я чувствовал себя усталым, как человек, уже едущий с ярмарки.
Чем больше детей дарили мне жены, тем чаще приходилось моему отцу вытаскивать меня из трясины. Я практически целиком зависел от него в том, что касалось земли, дома, моих фургонов и волов, овец и работников, которых я нанимал, и даже моих счетов в магазине и зернохранилище. Даже конь мой, небольшой красивый гнедой, с белыми носочками на передних ногах и тяжелыми копытами, принадлежал отцу. Когда с деньгами становилось туго, я брал в долг у соседа или кредит в скобяной лавке. Всегда с намерением самостоятельно расплатиться с долгами, только это никогда не срабатывало. Папа всегда узнавал о таких моих дырах и всегда их заделывал.