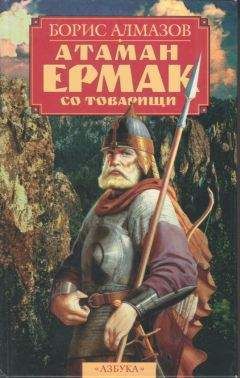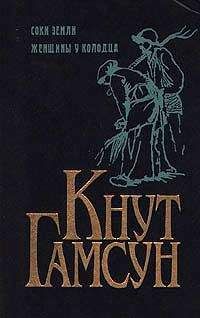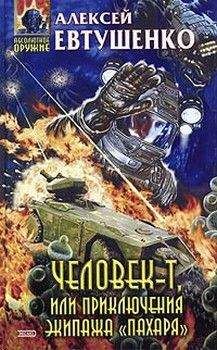— Это их верхние люди наказали! Они лесных людей в полон угоняют, женок насилуют, все отбирают и над мужчинами стыдное делают. Вот так ножом отрежут и «алла» петь заставляют. А кто убегает, того ловят и убивают. Их верхние люди наказали...
Пан же, глядя на пылающие юрты, мечущихся между ними женщин, на трупы, валяющиеся на снегу, грустно сказал:
— Грозной ты, однако! — и, вздохнув, добавил: — Ермак бы так делать не стал.
— Ермак! — огрызнулся Мещеряк. — Ермак с добротою своею с голоду пухнет!
Священник сидел на мешках с хлебом и, закрыв глаза, читал покаянную молитву.
— Не будет вам от Господа прощения! — сказал он кротко. — Нельзя так!
— Знаешь что, батяня! — ответил ему Пан. — Катись-ко ты назад, в Кашлык! Без тебя тошно!
Трое саней, груженные мешками с зерном, медленно поползли назад, в лагерь. Впереди на собачьей упряжке ехал остяк. Двое казаков с саблями и арбалетами шли на лыжах за санями, да торчала на мешках согбенная фигура священника. Отряд же налегке пошел дальше, в татарскую волость, отстоящую от Каш лыка на сто верст.
Кровавая расправа над непокорным улусом сделала свое дело. В следующих татарских деревнях жители молча выносили меха, зерно, мед. Казаки, отводя глаза, грузили все это на сани, по юртам не лазали и выдавали бирки об уплате ясака.
Отправляемые в Кашлык припасы никто не отнимал, но татары глядели на казаков, не скрывая ненависти.
— Истинно — волки! — вздыхал Пан. — Аж глаза в зелень отдают! Только огня и боятся. А вот как кончится у нас огонек, чего будет?
Казаки ежились в санях:
— Страх! Разорвут! Истинный Бог — разорвут!
— А нам с ними родниться неча! Враги — они и есть враги! — говорил Мещеряк.
— Каки они тебе враги! — сказал Пан. — Ты — сам татарин! Ты ж с ними одного корня!
— Ну и что? Да хужее нет врагов, как меж родней!
— То-то и беда! Чего-то не то мы творим! Сами волю добываем, а тут людей неволим!
— Какие они тебе люди! — ярился Мещеряк. — Это враги наши!
— Однако и они по образу Божию сотворены... Стало быть, для чего-то и они родились?
— Это Бог тебя в вере испытывает!
— Какая там вера! Грабеж, да и все!
— Не грабеж, а ясак государев. Мы и так по закону берем, а не как Бог на душу положит! А ты что, караваны не грабил на Волге-то?
— В караванах все — от избытка! — вздыхал Пан. — А так, кусок последний изо рта! Тошно мне еие творить.
— Держава завсегда на крови стоит!
— Вот я и тикал из энтой державы-то! Будь она проклята!
— А мне что, татар примучивать в радость?! — не ныдержал наконец Мещеряк. — Ты что, сам не понимаешь — их больше, а мы в художестве! Тут ведь либо мы их, либо они нас!
— То-то и оно... А не по душе это мне, не по совести!
Однако и Пан ясак отбирал прилежно и всякого, кто встречал казаков с оружием, валил наземь либо огненным боем, либо саблей бестрепетно. Ничего не поделаешь — война!
— Не об том ты думаешь! — говорил Мещеряк. — Ты думай о том, что мы своим в Кашлыке, что вовсе от голода помирают, жизни спасем!
— Кабы я так не думал, — вздыхал Пан, — давно бы в прорубь не то на пики татарские кинулся!
Через две недели вышли из пояса татарских улусов, и жизнь пошла совсем другая.
Остяки сбирались навстречу казакам толпами. Разодетые в самые лучшие одежды, они били в бубны, пели, танцевали...
Мещеряк выходил перед ними без оружия. Доставал пергаментный свиток, на котором было невесть что написано, — свиток остался от попика, он его позабыл, когда возвращался к Ермаку в лагерь. Среди казаков прочитать его никто не мог — все были неграмотны. Но, подражая государеву дьяку, Мещеряк «читал» нараспев, а какой-нибудь шустрый толмач из остяков переводил:
— «Милостью Божьей Мы, Государь Московский и Всея Руси...» — Мещеряк нес такое, что на Москве его давно бы повесили за непочтение, казаки на санях еле сдерживались, чтобы не заржать от смеха, но вот есаул переходил к деловой части: — «Отныне и навеки запрещается: кабалить одному человеку другого, отдавать человеку человека в заклад, продавать, неволить и угонять». — Как правило, как только толмач переводил эти слова, лесные люди падали на колени и дальше слушали указ, стоя на коленях, иногда одобрительно вздыхая. — «Никто же, — вычитывал атаман, — не может насильно заставлять другого человека своему Богу веровати и в свою веру насильно обращати».
Стоном одобрения и боем в бубны отвечали на это остяки.
— «А ясак я вам, Государь Московский и Всея Руси, полагаю вдвое меньше, как вы платили поганому басурманину Кучуму. А кто же сберет ясака больше положенного, то сие обменивать на деньги или иные припасы по торгу полюбовно...»
Что начинало твориться после того, как есаул сворачивал свиток, целовал его сам и давал поцеловать всем с благоговением подходящим к нему лесным людям, трудно описать.
Казаков обнимали, тащили в чумы или к кострам, кормили-поили. А уж мягкой рухляди натаскивали столько, что казаки не знали, как повезут ее в лагерь.
Счет вели честно, беря ровно половину того, что давали прежде Кучуму, а за остальное расплачиваясь наконечниками для стрел, бисером и иными немудрыми припасами, коими снабдили их Ермак и молчаливый рыжий немец. Лесные люди принимали как величайшую драгоценность железные топоры, ножи, рыболовные крючки...
Эта полученная ими, может быть впервые от ясашного есаула, вещь была не просто полезна в хозяйстве — это был знак новой жизни, свободы, которую принесли бородатые люди с громоносными палками. Об этом слагали песни и разносили их из стойбища в стойбище.
И когда деловитый Бояр или какой другой князь из его сторонников или сродников затевал присягу, лесные люди клялись в верности неведомому, но доброму русскому Царю искренне, со всем сердечным жаром.
Шаманы выносили самые заветные святыни, которые сторонним людям никогда не показывали. Гудели бубны, пестро одетые диковинные шаманы выкрикивали молитвы и подавали в знак клятвы пить воду с золотого блюда.
— Гля, станичники, — золото! — сказал Якбулат из Ермаковых родаков.
— И верно, — без всякого интереса согласились казаки.
— Стало быть, есть оно в здешних местах...
— Ох, и хватят они горя с этим золотом! — дальновидно предсказал Пан. — Как попрут сюды купцы да добытчики, вот и плакали тутошние становища. Все под корень изведут! Все речки перекопают! А энти — как малые дети!
Но это было далеко не так. Сквозь прорези в шаманских масках, сквозь завесь мелких косичек шаманы зорко примечали все в новых, незнаемых людях. И прекрасно понимали, что перед ними — не князья, не ханы, потому не очень в их указы верили.
Примечали и другое, что люди эти дружественные, лесным людям беды не делают, а к золоту совершенно равнодушны. И это им нравилось больше всего.
Они помнили, как при одном упоминании о золоте ханские воины перетряхивали весь скарб в чумах, обыскивали и старых и малых. А эти смотрели на золото безразлично. Не отнимали, не требовали показать, где его родят горы. Может быть, поэтому казаки остались живы, когда случайно наткнулись на огромное капище, где шло весеннее моление и несколько десятков шаманов призывали весну и тепло.
Казаки вышли на это место неожиданно, отчасти заплутавши в лесистых и болотистых местах вокруг реки Демьянки. Шли как обычно — с опаской. Впереди — трое конных, далее, на значительном расстоянии, — обоз, а уж потом — опять стража.
Первые замахали обозу остановиться. Казаки торопливо похватали пищали и сабли.
— Что там?
— Шайтанщики молятся! — доложил одноглазый казак Репа.
Из чащи доносились крики и гудение бубнов. Казаки бесшумно подобрались поближе. На широкой поляне стояли десятки идолов, увешанных тряпками, вымазанных кровью. В самом центре, окруженная огненным кольцом, стояла чара не чара, бадья не бадья, обхвата в четыре; в ней была налита вода, а посреди этой чаши стояла фигура. Сквозь пляшущие языки пламени можно было разобрать только, что это — изображение женщины, и по блеску догадаться, что вылита она из чистого золота.
Вокруг чаши танцевали и бились в молитвенных припадках шаманы. Они вскакивали, колотили в бубны, падали, катались по земле, хватали руками угли и кололи себя ножами, не чувствуя боли.
— Во чего творят! — прошептал Репа Мещеряку. — Страх!
— Пойдем-ка, робяты, отсюдова! — сказал Пан. — Ну, молятся и молятся!
— Удивительно, однако! Это вот они так-то бога свово почитают?
— Ну!
— Смешно!
— А им небось смешно, как ты молисси! — сказал ермаковец Якбулат.
— Каждый своему богу на свой манер служит, — согласился Репа.
— Пойдемте отсель! — увел казаков Пан.
— А статуя навроде болван золотой! — сказал Репа.
— Наверно. Айда отсель!