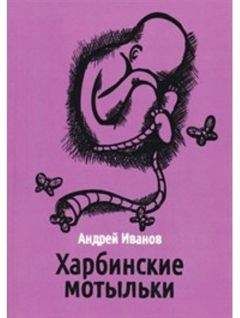Кунстник порвал письмо и бросил в печку. В эти дни слег и Николай Трофимович. Борис забегал. Николай Трофимович напоминал ему о гражданстве; каждый раз одно и то же:
— Медлить нельзя, подавай прошение! Начинай хлопотать! В газетах пишут: тех, кто не подал ходатайства, попросту вышлют в провинцию из городов! На острова! И что ты там делать будешь?
Борис перестал к нему ходить. Француз собирал чемоданы.
— Пора домой, — говорил он посреди полупустой квартиры, — сделаю, наконец, выставку.
Купил у Бориса все дагеротипы и несколько картин. В ресторане «Кунинг» устроили прощальный ужин, обедали вчетвером: Тунг-стен, мсье Леонард, Борис и Тидельманн, — провожали мсье Леонарда. Борис сжался, когда Herr Tidelmann, будто шутя, сказал, что его ателье тоже больше не приносит дохода — не закрыть ли его совсем?.. Внутри все обмерло: такого он и вообразить не мог! Даже руки с бокалом не донес до губ — поставил на стол. Тидельманн посмотрел на него и опустил глаза, и художник понял, что он не шутит, — хрустальные люстры, фарфор, гобелены — вся театральная роскошь ресторана померкла, слиплась и встала в горле комом. Выпил, поперхнулся, закашлялся.
— Видите ли, Борис, — сказал Тидельманн, похлопывая художника по спине, — немцев в Эстонии остается все меньше и меньше. Сами видите, какие наступают времена… Эстонцы к нам ходят все реже и реже, предпочитают своих.
— Понимаю, — отвечал Борис, сильно смущаясь.
— Я слышал, Кюниг тоже собирается закрывать, — вставил мсье Леонард, показав пальцем в сторону дверей, что вели в кухню ресторана, намекая таким образом на хозяина.
— Да, я тоже, — сказал, сурово кивая, герр Тидельманн, и снова посмотрел на Бориса: — Слишком много открылось студий и ателье в последние пять лет. Для такого маленького города, как Таллин, слишком много, мой друг.
Мсье Леонард подхватил: рекламы, аренда съедают всё!
Включился швед: да… рекламы, рекламы…
— Штат сократили, производительность упала, — объяснял Тидельманн шведу с французом, — арендная плата растет не по дням, а по часам. — Те только кивали, а Борис лихорадочно думал: куда бежать?.. где искать?.. — Материал, оборудование… — перечислял немец.
— Да, — кивали швед и француз, — простая арифметика…
— Именно, простая арифметика!
Эх, как они легко поняли друг друга! — подумал Ребров.
Через несколько дней на двери появилось объявление о распродаже инвентаря, объявление было на двух языках: немецком и эстонском. Слетелись конкуренты с Никольской, Lehmstrasse, Suur Karja[80]. Торговались, брали дорогое оптическое оборудование за бесценок; выносили «юпитеры» и лампы, шкафчики и этажерки, с которых забывали снять коробки и ванночки; выторговывали закупленный материал: пигменты, гуммиарабик, бромосеребряную бумагу, кровяную соль, берлинскую лазурь, желатин, литографскую краску, лампы, фоны, задники; расчетливый антиквар купил штативы Клари и светоотражающие экраны, изготовленные черт знает когда. Во время проявления к Борису в лабораторию вошел герр Тидельманн и вынес красную лампу, а за ней и старинную камеру обскура. Последний рабочий день в ателье закончился кошмаром: грандиозный задник с иллюзией Елисейских Полей треснул в руках пьяных носильщиков и сложился, как крылья бабочки. Защемило сердце, художник поторопился выйти; не услышав колокольчика, не стал придерживать дверцу — пусть грохнет! Пусть провалится!
Началась бессонница. Кунстник стал чаще гулять у моря. В эти дни он думал только о работе. Особенно его разозлило то, что Лунин из ателье на Никольской сразу отказал, отказал резко, точно хотел дать понять, что не возьмет Реброва только потому, что тот работал у Ти-дельманна. Глупо было соваться к нему, корил себя Борис, тут все было заранее известно, успокаивал себя художник, но не думать не мог, вспомнит, как дернул щекой Лунин, и внутри злость закипает, а сам краснеет.
Другие обещали подумать, говорили по-эстонски, начиналось самое страшное: не знал, что ответить, потому как не понимал, что спрашивали…
Искал пустые улочки. Прохаживался в Екатеринентале до самого верхнего яруса. Оттуда спускался до пруда, помытые дождем скамейки были облеплены первыми желтыми листьями. Шел дальше. Мимо тарахтели трамваи, автобусы. Попадались нарядные дети с ранцами. Пешком до Старого города. Оттуда дальше к вокзалу… Поезда манили, перроны снились… но снились они ему втрое, впятеро длиннее… Он подолгу сидел у пруда в парке Шнелли, отвернувшись от вокзала, но сердцем жадно ловил свисток, стук колес… Хотелось ехать: хотя бы в Юрьев… А что там, в Юрьеве? Букинистический Веры Аркадьевны… Так унизительно, так стыдно… Чистил ботинки подорожником, удерживаясь от крика; причесывался, незаметно намочив в фонтане расческу, курил, а потом поворачивал обратно, шел — само спокойствие — через парк мимо башен, нырял под арку, начинал блуждать, часто проходя по одним и тем же улочкам три, четыре раза. Заглядывал по пути в разные ателье, салоны, спрашивал, не нужен ли художник, опытный мастер, декоратор и т. п. Никому никто был не нужен. От своих не знали, как избавиться. Все были замкнутые, напуганные, подозрительные. Зашел к старику-галеристу, который говорил по-русски и даже покупал у него когда-то картины, за гроши брал у других. Тот сказал:
— Приносите, посмотрим… — И переспросил: — Как вы сказали ваше имя?
— Ребров. Борис Ребров.
Старик кивнул, как деревянный дятел.
Не знает. Первый раз слышит.
— Приносите. Посмотрим, — неопределенно двинул плечом.
Борис почувствовал себя самозванцем. Стал носить с собою паспорт и бумаги, которые дал ему Тидельманн. Но это не успокаивало. В эти дни ему казалось, что в нем умирает художник.
Кунстник, говорил он себе. Kunstnik Boriss Rebrov, и ничего не отзывалось, внутри была сморщенная, как пленка на какао, тишь, скомканный лист бумаги, расправить страшно: как знать, что там сложится? Ни ветерка. Мерещилось надгробие: Boriss Rebrov, kunstnik. Ветка кивала. В разных частях города одна и та же птичка пронзительно пела: тинь-тинь-ти-инь… Изо дня в день: тинь-тинь-ти-инь…
Плелся через Глиняную, не поднимая глаз. Безмолвно: Ратуша, узенькая темная улочка без названия, Нунне, вниз до парка Шнел-ли, сквозь кусты в аллею, где обычно никого в такие промозглые дни, только тощие столбы с ржавыми фонарями, закопченными стеклами, призраки двадцатых годов… Все дорожки в листьях, под ногами катались каштаны, хруст… Курил на скамейке, подложив газету, падали каштаны… Каркали вороны, прыгая по жухлой траве… Вдруг — свисток с вокзала и — тинь-тинь-ти-инь… Курил на деревянном мостике, под которым притаились утки, они тихонько крякали, падали каштаны…
Вот так живут многие, — думал он, подсматривая за утками, — целые народы живут именно так, как эти утки: притаятся под каким-нибудь мостиком, крякают потихоньку, переругиваются, щиплют друг дружку, а потом приходит охотник и ба-бах из обоих стволов…
Мысль перебивали каштаны. Но даже каштан не падет просто так…
Вспомнилось, как в грозу на крышу их дома в Павловске обрушивались желуди и Танюша кричала во сне…
Он себя чувствовал скорее поэтом, чем художником, но так и не написал ни строчки. В эти дни ни к чему не прикасался.
Я словно мертвый. От меня все отмирает. Сам я еще живой, думал он, рассматривая линии на ладони, но — надолго ли? Еще живой, начинал он так, будто записывал, но от меня мир отходит. Не я отхожу, а мир от меня. К черту!
Бродил по городу, тратил последние деньги, что оставил ему герр Тидельманн. Зашел в «Аско» и оставил две сотни, а на утро был зол на себя. В зеркало на себя посмотрел, как на чужого: куда деньги дел? Неделю не выходил. Собрался с силой, заставил себя закончить три картины. Писал с ненавистью и к себе и к картинам. Доставал из кармана чек, который выписал ему Тидельманн, рассматривал его, а потом, аккуратно сложив в конверт, прятал. Не хотел тратить. Это при крайней нужде, говорил он себе.
— При крайней нужде, — сказал он вслух и, посмотрев в зеркало, подумал: а разве она не наступила?
Послал письмо Тунгстену, тот не ответил. Ждал полторы недели. Обычно ответ приходил через пять дней, дольше недели ни разу не было. Возможно, в делах или в отъезде, успокоил себя Борис. В отъезде, шептал внутренний голос. Чихать он хотел на тебя, Ребров, кун-стник! Чи-хать! Отнес картины старику-галеристу. Тот взял дешево. Торговаться было бессмысленно. Хорошо хотя бы так берут. Через год совсем забудут. Кто такой? Начинай сначала: Борис Ребров, kunstnik.
Ходил по столовым, прятал глаза; по ночам пил вино, выходил в коридор покурить в окошко. Как тот старик, что жил-жил и однажды умер, — никто не пришел хоронить.
Дни замкнулись на парке Шнелли, отчего-то шел именно туда. До Екатериненталя ноги не шли. Ослаб волей. Нести себя уже никуда не хотел. Покупал дешевое печенье и сидел в парке, притворяясь, что кормит птиц, а сам хрумкал печенье, и было ему стыдно. В парке Шнелли гуляли только старики и нищие, попрошайки (к Борису не подходили: за своего принимают, — решил он и испугался). Как-то, сидя у пруда, он почувствовал, будто кто-то скребется за спиной. Оглянулся — снег, на ржавые листья каштанов падала мелкая крошка… Какой ранний снег в этом году!