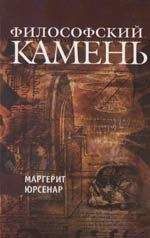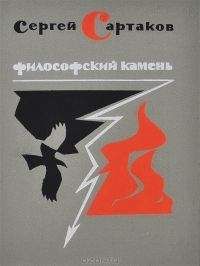Беседа с каноником положила конец состоянию, какое с утра, с той самой минуты, когда был вынесен приговор, он ощущал как торжественность смерти, Участь его, казавшаяся неотвратимой, вновь сделалась зыбкой. Отвергнутое им предложение еще несколько часов оставалось в силе: как знать, вдруг в каком-то уголке его сознания притаился Зенон, способный сказать «Да!», — предстоящей ночью этот трус может одержать над ним верх. Пусть остался один шанс на тысячу — краткое и роковое будущее наперекор всему обретало долю неопределенности, равную самой жизни, и по странной закономерности, какую ему случалось наблюдать у изголовья своих пациентов, смерть в силу этого делалась обманчиво иллюзорной. Все заколебалось и колебалось бы до последнего его дыхания. И однако, решение принято: он ощущал это не столько по благородным признакам мужества и самопожертвования, сколько по какой-то тупой отрешенности, которая словно бы наглухо отгородила его от внешних влияний и даже от способности чувствовать. Утвердившись в собственной смерти, он уже был Зеноном in aeternum[54].
С другой стороны, так сказать, в недрах решения умереть угнездилось еще одно, более сокровенное решение, которое он старательно утаил от каноника: решение самому лишить себя жизни. Но и тут перед ним открывалась неохватная томительная свобода: он мог по своей воле исполнить это намерение или отказаться от него, совершить акт, который положит конец всему, или, напротив, принять mors ignea[55], которая мало отличается от агонии алхимика, по недосмотру подпалившего долгополый плащ огнем своего горна. Этот выбор между казнью и самоубийством, который до самого конца будет подвешен к волоконцу субстанции его мозга, колебался уже не между жизнью и некой формой существования, как в случае, когда речь шла о том, чтобы согласиться на отречение или его отвергнуть, — выбор касался только способа смерти, ее места и точного времени. Ему решать, окончит ли он свои дни на Главной площади под улюлюканье толпы или в тишине среди этих серых стен. Ему также решать, отсрочить или ускорить на несколько часов это последнее деяние, увидеть, если пожелает, как займется заря некоего восемнадцатого февраля 1569 года, или покончить со всем еще до наступления ночи. Упершись локтями в колени, недвижимый, почти умиротворенный, он вперился взглядом в пустоту. Время и мысль оцепенели, как посреди урагана, бывает, настает вдруг зловещая тишина.
Пробил колокол собора Богоматери — Зенон стал считать удары. И вдруг совершился переворот: спокойствие исчезло, сметенное, словно налетевшим вихрем, сосущей тоской. Подхваченные этим вихрем, закружились обрывки картин: аутодафе, виденное им тридцать семь лет назад в Асторге, недавние подробности казни Флориана, воспоминания о нечаянных встречах с обезображенными останками казненных на перекрестках исхоженных им дорог. Казалось, весть о том, чем ему вскоре предстоит стать, вдруг осозналась его телом, и каждое из его пяти чувств прониклось своей долей ужаса: он видел, осязал, обонял, слышал все подробности завтрашней своей казни на Главной площади. Телесная душа, осмотрительно отстраненная от размышлений души умственной, вдруг внезапно и изнутри уяснила то, что Зенон от нее скрывал. Что-то вдруг лопнуло в нем, словно натянутая струна, — во рту пересохло, волоски на руках встали дыбом, зубы начали выбивать дробь. Это смятение, прежде ни разу им самим не испытанное, напугало его более всего остального. Стиснув ладонями челюсти, стараясь дышать размеренно, чтобы унять сердцебиение, он наконец подавил этот бунт собственного тела. Это уже слишком — надо кончать, прежде чем разгром плоти и воли лишит его способности самому исцелить свой недуг. Множество непредвиденных опасностей, которые могут помешать ему сознательно уйти из жизни, вдруг представились его вновь прояснившемуся рассудку. Он оценил положение взглядом хирурга, который выбирает инструменты и взвешивает надежды на успех.
Было четыре часа пополудни; ужин ему уже принесли и простерли любезность до того, что даже оставили в камере свечу. Тюремщик, заперший дверь по его возвращении из судебной приемной, появится лишь после сигнала тушить огни, а потом уже только на рассвете. Таким образом, для исполнения его плана у него остается два долгих промежутка времени. Но эта ночь не такая, как всегда: епископ или каноник могут некстати прислать какого-нибудь вестника, и ему должны будут открыть дверь; порой из лютой жалости в камеру к осужденному водворяли какого-нибудь служителя Божьего или члена братства Доброй Смерти, дабы приобщить умирающего святости, склонив его молиться. Может случиться также, что его намерение будет разгадано — в любую минуту ему могут связать руки. Зенон настороженно прислушался: не заскрипят ли двери, не послышатся ли шаги — все молчало; но мгновения были дороги так, как еще ни разу в дни его прежних вынужденных исчезновений.
Все еще дрожащей рукой он приподнял крышку стоявшей на столе чернильницы. Между двумя тонкими пластинками, которые на первый взгляд казались одной, цельной, хранилось спрятанное Зеноном сокровище — гибкое узкое лезвие менее двух дюймов длиною; вначале он держал его под подкладкой камзола, а потом, после того как судьи по всем правилам осмотрели его чернильницу, перепрятал в этот тайник. Каждый день он раз двадцать проверял, на месте ли предмет, который в былые дни он не удостоил бы подобрать в канаве. Когда его арестовали в убежище Святого Козьмы и потом еще дважды — после смерти Пьера де Амера и после того, как показания Катарины вновь возбудили в суде толки о ядах, — его обыскивали в поисках подозрительных склянок или пилюль, и он порадовался, что у него достало осмотрительности не связываться с бесценными, но хрупкими и легко портящимися снадобьями, которые почти невозможно хранить при себе или долго прятать в пустой камере и которые почти неминуемо обнаружили бы его намерение покончить с собой. Таким образом, он утратил преимущество мгновенной, единственно милосердной смерти, но обломок тщательно отточенной бритвы, по крайней мере, избавит его от необходимости рвать простыни, чтобы вязать не всегда надежные узлы, или возиться, быть может тщетно, с глиняным черепком.
Порыв страха перевернул все у него внутри. Он подошел к судну в углу камеры и облегчился. Запах переваренных и извергнутых пищеварением веществ на мгновение ударил ему в нос и еще раз напомнил о сродстве тлена и жизни. Рубашку в штаны он заправил уже твердой рукой. На полочке стоял жбан с ледяной водой, Зенон смочил лицо, слизнув каплю языком. Aqua permanens[56]… Для него это была последняя в жизни вода. Всего четыре шага отделяли его от постели, на которой он шестьдесят ночей подряд спал или томился бессонницей; среди мыслей, вихрем проносившихся в его мозгу, мелькнула и такая: спираль странствий привела его в Брюгге, Брюгге сузился до размеров тюрьмы, и, наконец, кривая замкнулась прямоугольником камеры. Позади него из развалин прошлого, отринутых и преданных забвению еще более, нежели другие его развалины, тихо зазвучал хрипловатый и ласковый голос брата Хуана — в обители, погрузившейся во тьму он говорил по-латыни с кастильским акцентом: «Eamus ad dormiendum cor meum»[57]. Но теперь речь шла не о сне, Никогда прежде не испытывал он такого подъема — душевного и телесного: точность и быстрота его движений была подобна той, что приходила к нему в великие минуты хирургических свершений. Он развернул одеяло из грубой, плотной, как войлок, шерсти и соорудил из него на полу вдоль кровати нечто вроде желоба, который должен был задержать и впитать в себя хотя бы часть льющейся жидкости. Потом для верности скрутил жгутом сброшенную накануне рубашку и уложил ее валиком под дверью. Надо было позаботиться о том, чтобы струя, стекая по слегка покатому полу, не слишком быстро просочилась в коридор и Герман Мор, случайно приподнявший голову на своей лежанке, не сразу заметил бы на плитах пола черное пятно. Затем, стараясь не шуметь, он снял ботинки. В такой предосторожности нужды не было, но тишина казалась ему залогом безопасности.
Он вытянулся на постели, поудобней устроив голову на жестком изголовье. На мгновение ему вспомнился каноник Кампанус, которого ужаснет этот конец, хотя старик первый приохотил его к чтению древних, чьи герои погибали подобным же образом, но эта ироническая мысль скользнула по поверхности сознания, не отвлекая Зенона от единственной его цели. Быстро, со сноровкой хирурга-цирюльника, всегда бывшей предметом особенной его гордости, хотя другие, не столь бесспорные лекарские таланты ценились не в пример выше, он, согнувшись вдвое и слегка подтянув к себе колени, на внешней стороне левой ноги, в том месте, где обыкновенно отворяли кровь, разрезал берцовую вену. Потом, стремительно выпрямившись и снова откинувшись на подушку, торопясь предупредить возможный обморок, он нащупал и рассек лучевую артерию на запястье. Он едва ощутил короткую поверхностную боль от пореза. Кровь брызнула фонтаном; жидкость, как всегда, словно заторопилась вырваться из темных лабиринтов, где она кружит взаперти. Зенон свесил левую руку вниз, чтобы облегчить ток струе. Победа все еще была неполной: в камеру могут случайно войти, и тогда завтра утром, окровавленного и забинтованного, его поволокут на костер. Но каждая прошедшая минута была выигрышем. Он бросил взгляд на одеяло, уже потемневшее от крови. Он понимал теперь, почему примитивное мышление отождествляет эту жидкость с самою душою — ведь душа и кровь одновременно покидают тело. В древних заблуждениях содержалась простейшая истина. Он подумал, мысленно улыбнувшись: вот подходящий случай пополнить давние исследования систолы и диастолы сердца. Но отныне приобретенные им познания стоят также мало, как воспоминания о минувших событиях или о встреченных когда-то людях; еще несколько мгновений он привязан к тончайшей ниточке собственной личности, но освобожденная от всякого груза личность уже неотделима от естества. Он с усилием выпрямился, не потому, что в этом была необходимость, но чтобы доказать себе, что такое движение ему еще под силу. Ему часто случалось вновь открывать закрытую им самим дверь, чтобы убедиться, что она не захлопнулась за ним навсегда, или оборачиваться вслед прохожему, с которым он только что расстался, чтобы опровергнуть бесповоротность ухода, доказывая таким образом самому себе свою куцую человеческую свободу. На этот раз необратимое свершилось. Сердце его гулко стучало: все его тело было охвачено бурной и беспорядочной деятельностью, словно побежденная страна, где еще не все бойцы сложили оружие; он почувствовал вдруг прилив нежности к своему телу, которое так хорошо служило ему и могло бы послужить еще, пожалуй, лет двадцать, а он разрушает его сейчас и не может объяснить ему, что этим избавляет от худших и более унизительных мук. Его томила жажда, но утолить ее он не мог. Как под давлением почти не поддающейся анализу лавины мыслей, ощущений, жестов, сменявших друг друга с молниеносной скоростью, разбухли три четверти часа, что протекли со времени возвращения его в камеру, так растянулись вдруг, уподобившись расстоянию между сферами, несколько локтей, отделявшие кровать от стола; оловянный кубок маячил уже в каком-то ином мире. Скоро эта жажда утихнет. Он умирал, как умирают на поле боя раненые, которые просят пить и которых наравне с ним самим обнимало его холодное сострадание. Кровь из берцовой вены била теперь толчками; с великим трудом, словно поднимая непосильную тяжесть, он передвинул ногу так, чтобы она свешивалась с кровати. Он поранил о лезвие правую руку, все еще сжимавшую бритву, но не почувствовал пореза. Пальцы его блуждали по груди, пытаясь расстегнуть воротник камзола, он тщетно старался остановить это бесполезное движение, но судорожная тревога была добрым знаком. Его пробрал вдруг ледяной озноб, как перед рвотой, — и это тоже хорошо. Среди гула колоколов, грохота грома и криков слетающихся в гнезда птиц — всех этих звуков, распиравших изнутри его барабанные перепонки, — он уловил донесшийся извне драгоценный звук капели: пропитанное кровью одеяло больше не вбирало жидкость, и она сочилась на плиты пола. Он пытался подсчитать, какое нужно время, чтобы черная лужица растеклась по ту сторону порога, преодолев надежный барьер свернутой жгутом рубахи. Но это уже не имело значения — он спасен. Даже если, на беду, Герман Мор откроет сейчас эту дверь, с замками которой приходится долго возиться, пока он придет в себя от удивления и испуга, пока помчится по длинному коридору, призывая на помощь, побег успеет совершиться. Завтра сожжению будет предано лишь мертвое тело.