На следующее утро, третьего июня, разгоняя толпу, Кожеловский учинил на Талке форменное побоище. Казаки и драгуны топтали людей — слышались истошные женские вопли. Со станции пришла рота солдат. «Дунаева ловите! — орал полицмейстер. — Дунаева мне!» Рабочие отбивались камнями, раздавались выстрелы. «В японцев стрелять не умеете, а нашу кровь льете», — Пашка Никулин охнул и упал лицом в землю, отбросив костыль.
Около двадцати пяти человек было арестовано, среди них — председатель депутатского Совета Авенир Ноздрин; из большевиков — Николай Грачев, Михайло Лакин, Фрол Егоров…
В полицейском участке депутаты заявили протест, подчеркнув, что ни в чем не виноваты.
— Не виноваты, а зачем убегали? — измывался Кожеловский.
— Нагайками стегали, больно ведь, — пояснил Ноздрин.
— Ага! А здесь, думаете, пряников дадут? И здесь всыплют достаточно, — полицмейстер саркастически усмехнулся.
Николай Грачев первым вспомнил совет Афанасьева; пожав плечами, сказал спокойно:
— Воля ваша. Но просим иметь в виду — на нас ни одной царапины нету, фельдшер глядел.
— Какой еще фельдшер? — озадаченно нахмурился Кожеловский.
— А тот, который освидетельствовал нас…
— А-а, ракальи! — взревел Иван Иванович. — Так вы освидетельствовались заранее! Значит, готовились к арестованию! Стало быть, знали, что скопляться запрещено!
— Ничего подобного, — отрезал Грачев, — мы знаем царский указ, разрешающий сходки! А вы нарушили его… А освидетельствовались все депутаты по решению Совета…
Кожеловский топал в гневе сапогами, кричал, брызгая слюной, стучал кулаками по столу. Однако все это было декорацией, уловка помогла — арестованных не избивали.
После разгрома на Талке город оказался во власти разбушевавшейся стихии. У Гандуриных вдрызг разнесли фабричную контору, запалили ткацкий корпус, который удалось потушить лишь с помощью солдат. На улицах крушили телеграфные столбы, рвали провода. Сожгли гарелинскую дачу, вытоптали грядки, порушили теплицу. Полыхало имение Дербенева. Дачу городского судьи изрубили топорами; мужики из ближайшей деревни, опасаясь распространения пожара, упросили не баловать с огнем…
А вечером восторженный детский голосок возвестил начало погрома винной и продовольственной торговли:
— Ма-амка, кошелку давай, тятька лавку гра-абит!
— Ой, лихо мне! — взвизгнула женщина, выбегая из калитки с младенцем на руках.
Подвыпившие мужики, подзадоривая друг друга, коверкали дверь бакалейного магазина. Женщина заголосила:
— Уходите, окаянные! Вы что затеяли?!
— Тише, Анна, поделим добро…
— Ироды! — заголосила пуще прежнего. — Пошли прочь! Не подумали, где завтра хлеба возьмем? Сломаем, хозяин куска в кредит не даст… Степанида, Матрена, идите сюды, уймите своих!
Набежали со всех сторон рассвиреневшие женки, вцепились в волосы, оттащили мужиков.
— Эх вы, герои, — подначивал Алеха Сковородин, — испугались бабья… Пойдемте в Ямы, там лавки побогаче, есть где разгуляться…
За разгром винных монополек и купеческих магазинов в арестантскую запихали более двухсот человек. Полицмейстер, чувствуя себя на высоте, рапортовал: сделано все, что можно. А вот жандармский ротмистр Шлегель служебного удовлетворения не испытал.
— Плохо старались, — укорял Юлиан Людвигович своих тайных помощников. — Ни одного депутата в грабежах не замешано… Не сумели скомпрометировать депутатский Совет в глазах населения.
— Как же им быть замешанными, ваше благородие, ежели у них, напротив, указанье имелось — охранять лавки, — понурившись, объяснял Лебедев. — Потому и беспорядки прекратились быстро…
С погромами по настоянию большевиков боролась рабочая милиция, образованная Советом. Полезную мысль опять подал Петруха Волков. Не подчинившись запрету собираться, обсуждали текущей момент на нелегальной сходке. И Волков сказал:
— Лабаз Василисы Тюриной берегу от разоренья. Старуха душевная, я с ней договорился — дает людям в кредит и сахар, и муку, и крупы…
— Славно придумал, — похвалил Афанасьев. — Давайте-ка возьмем под защиту купчишек, которые не живоглоты и помогают нам. Не много таких-то, а все же есть…
Рабочая милиция — не фараоны из полицейского участка: заранее знали, от кого можно ожидать беспутства. Одних, подкараулив, турнули от винной казенки, другим накостыляли по шеям, застав с ломиком возле бакалейного магазина. И сразу пошел слух: депутаты порядок наводят. И уже через два дня грабежи поутихли.
Седьмого июня в Иваново-Вознесенск вернулся губернатор.
Газеты на весь белый свет раструбили о последних событиях на Талке, конечно же преувеличив степень карательных мер; правительство нервничало. В этих условиях Сазонов стал слишком одиозной фигурой, пришлось отозвать его, чтобы утихомирить общественное мнение. Натурально, и Кожеловского… Первое, что сделал Леонтьев по возвращении, устранил от обязанностей ретивого усмирителя.
— За что же, ваше превосходительство? — У Кожеловского выступили слезы. — Меня чуть не убили, ваше превосходительство! — Иван Иванович извлек из портфеля увесистую булыжину. — Мимо уха просвистело, находился на волосок…
— Я бессилен что-либо сделать для вас, — неприязненно прервал Леонтьев. Полицмейстер покачивал булыжник на ладони, точно взвешивая: думал разжалобить вещественным свидетельством своей верной службы. Но добился обратного эффекта. Камень напомнил Леонтьеву о неприятностях, свалившихся на него, начальника губернии, по милости Сазонова и Кожеловского. Запросы министерства внутренних дел, злые выступления газет, протесты депутатов — все это расхлебывать ему, нездоровому и утомленному человеку. Иван Михайлович потыкал истонченным старческим мизинцем в шершавую поверхность гранита: —А сей предмет можете подарить Бурылину, он собиратель редкостей.
Покончив с бывшим астраханским урядником, Леонтьев продиктовал докладную записку в Петербург:
«Если разгонять сходки, то, наверное, возобновятся поджоги, грабежи, город и его окрестности будут в опасности и рабочее движение примет характер открытого мятежа, будет масса невиновных жертв и невознаградимых материальных убытков. Вследствие сего я решил пока допускать сходки на Талке, как меньшее из двух зол…»
Губернатор старался сгладить промахи Сазонова. Совет потребовал освободить депутатов, арестованных Кожеловским, — распорядился выпустить. Думал, хоть это успокоит народ. Однако выстрелы третьего июня прочертили грань, за которой оставалось мало надежд на благополучный исход стачки. На митингах теперь звучали призывы к вооруженному восстанию. Евлампий Дунаев, переодетый и с фальшивой бородой, размахивая плеткой, горланил:
Нагайка, ты нагайка,
Тобою лишь одной
Романовская шайка
Сильна в стране родной…
Обстановка накалилась до предела: люди запасались кистенями, револьверами, металлическими тростями, ружьями…
Но вдруг колесо повернулось в обратную сторону. Гарелин и его компания по «Славянскому базару», видимо, поняли, что их упорство зашло слишком далеко и не сулит в будущем ничего, кроме еще больших беспорядков. Тринадцатого июня промышленники согласились на прибавку десяти процентов жалованья. Через день объявили новую уступку: зимние, более дешевые, расценки уравнялись с летними, что давало еще пять процентов прибавки.
Талка ликовала: наша берет, продолжаем стачку! Терпение вознаградилось: управляющие фабрик Грязнова и Щапова вывесили извещение о десятичасовом рабочем дне, отмене обысков и более существенной прибавке заработка. Кроме того, обещали никого не увольнять за участие в забастовке и возместить убытки, понесенные рабочими.
Из «Славянского базара» посыпались телеграммы, настаивающие на запрещении несогласованных действий. Но давление на «мягкотелых» фабрикантов оказалось тщетным. Щапов и московские банкиры, содержатели грязновской мануфактуры, злобным воплям не вняли, от обещанного не отказались. Гарелин попытался зайти с другой стороны: пользуясь связями, ударил челом высшим сферам, умоляя воздействовать на забастовщиков через Леонтьева. Губернатор — человек служивый. Петербург начальственно рявкнул, и он был вынужден назначить срок окончания стачки. Новый полицмейстер самолично ходил по улицам рабочих пригородов, зазывая народ на фабрики. Увы, как и предвидел губернатор, безуспешно… А «славяно-базарская» группа, видя такое, заявила категорически, что, если немедленно не возобновятся работы, они, фабриканты, будут считать себя свободными от ранее данных уступок. А тут еще граверы, раклисты и некоторые другие наиболее высокооплачиваемые, собравшись на ярмарочной площади, призвали удовлетвориться объявленными прибавками. А стачечная касса совершенно истощилась, и притока средств больше не предвиделось. И тогда городской комитет большевиков вынес решение: с первого июля стачку прекратить.

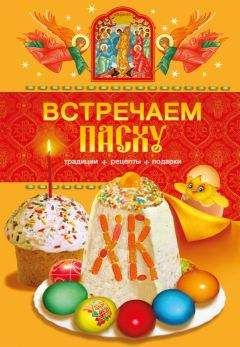
![Роберт Хайнлайн - Чужак в чужой стране [= Чужой в чужой земле, Пришелец в земле чужой, Чужак в стране чужой, Чужак в чужом краю, Чужой в стране чужих]](https://cdn.my-library.info/books/130171/130171.jpg)


