— В случае чего — применим оружие, — угрюмо пообещал вахмистр. — Возвергайтесь подобру… Никаких политических здесь нету.
Посовещавшись, постановили: идти на Талку. Надо было сгладить охватившее всех ощущение полной неудачи. Решили провести еще один митинг, чтобы пробудить боевой дух. А вышло совсем худо.
В этот день православный мир отмечал праздник Казанской божьей матери. Союз Михаила-архангела объявил свою манифестацию. Еще когда на площади гудел рабочий митинг, вокруг стали скапливаться чиновники и подрядчики, домовладельцы и лавочники, приказчики, городовые, одетые по случаю праздника в партикулярное платье, дворники, извозчики и всякая кабацкая рвань, почуявшая бесплатную выпивку. Были тут и фабричные — из самых забитых, запуганных, а то и просто-напросто прикормленные из хозяйских рук.
Как только под нажимом Добротворского митинг закончился и демонстрация удалилась, на площадь из городской управы вынесли большой царский портрет в золоченой раме и трехцветное знамя Российской имнерии. В собственных экипажах прикатили устроители верноподданнической манифестации: фабрикант Зубков; председатель местной монархической партии, хозяин галантерейного магазина Бабанин; вдохновитель здешнего союза Михаила-архангела, член городской управы, владелец мясной торговли Мужжавлев; основатель крупной мельницы в Кинешме, известный хлеботорговец Куражев. Bсe с белыми бантами, торжественные. Вслед за ними появилось духовенство. Начался молебен.
А тем временем лавочник Гришка Шанин, дружок Мужжавлева, кривоногий, с длинными, неимоверной силы руками, доставил на площадь бочку с водкой. И едва лишь священник в последний раз осенил крестом обнаженные головы паствы, Шанин зычным голосом призвал православных откушать во здравие царствующей фамилии. Виночерпий — Мирон, ломовой приказчик из лавки Шанина, здоровенный, мослатый детина, — не успевал разливать: желающих приложиться к жестяной манерке на даровщину оказалось предостаточно. Илья Степанович Мужжавлев, издали наблюдавший за разгорающимся весельем, поманил Гришку пальцем, напомнил:
— Казаков не забывайте. Подносите, сколь захотят.
Шанин понимающе кивнул и, расталкивая гогочущих, раскрасневшихся единоверцев, устремился к бочке. Выхватил у приказчика манерку, гаркнул во все горло:
— Астраханцы наши гости! Им первый почет и уваженье! Подходите, господа, смелее, ничего для нас не пожалеем!
Усаживаясь в коляску, чтобы отбыть к праздничному обеду, Бабанин недовольно буркнул:
— Перепьются, сволочи.
— Ништо, Михал Михалыч, — Мужжавлев похлопал его по плечу, — выпимши-то будут понадежнее. Поохали, господа, восвояси, без нас управятся. Верно ли думаю, Николай Николаич?
Зубков перекрестился, ответил степенно:
— С божьей помощью — как-нибудь. На вашего Гришку надежда, шустрый мужик.
Через час подогретая сивухой процессия тронулась в путь. Над толпой возвышались хоругви, иконы. Нестройным хором пели «Спаси, господи, люди твои». Впереди, выказывая истое добросердие, с портретом царя на вытянутых руках вышагивал Гришка Шанин. Рядом выступали лавочники Лаврентьев, Собинов. В затылки им дышали приказчики Бабанина, два племянника Куражева. Благодарные за угощение, манифестацию охраняли астраханцы — «желтяки», как их прозвали в городе.
Вот с этой-то ордой и встретились большевики на Шереметьевской, когда, уставшие, голодные, насквозь промокшие, направлялись на Талку. Лицом к лицу — две противоборствзпощие силы. «Уберите свои тряпки!» — потребовал лавочник Собинов. «Проходите мимо!» — строго ответил Фрунзе. «Господа, это издевательство!» — плаксиво заголосил младший племянник Куражева. «Проучим смутьянов!» — поддержал старший. «Давайте поговорим миром! — только и уснел сказать Афанасьев. — Места много на улицах, всем хватит» — «Какие ишшо разговоры! — заорал Лаврентьев. — Бей их!» — «С богом!» — подхватил Гришка Шанин и, отдав кому-то портрет, первым кинулся на демонстрантов. Силы и без того в тот момент были неравными, а тут еще «желтяки» пособили черной сотне. Под ударами нагаек рабочие кинулись врассыпную, уступая внезапному натиску. Траурное знамя упало, лишь один красный флаг, оторвав от древка, успели спрятать…
А после этого, догоняя рабочую демонстрацию, на Сретенской улице с процессией монархистов встретились боевик Василий Морозов и его друзья по фабрике — Миша Красильников и Петруша Соловьев. Хорошо зная Морозова и его роль во время летней стачки, Григорий Шанин заорал как резаный:
— Господа! Зубковские депутаты показались!
Подвыпившие манифестанты озлобленно загудели. Григорий Шанин выбежал на обочину с царским портретом, остановился перед Морозовым и дурашливо поклонился:
— Не погребуй, Василь Евлампич. Обчество требует-с…
За Гришкой потянулись дружки, окружили рабочих — красные рожи, сжатые кулаки, готовые к лихому мордобитию. Василий немного побледнел, но, сдерживая себя, сказал миролюбиво:
— Пропустите, никому не мешаем.
— Оченно мешаете, — прохрипел Шанин. — Проходу от вас нетути… Цалуй патрет!
— Чего рассусоливать?! — взвизгнул приказчик Бабанина. — Видал миндал, носы от ампиратора воротят! Бей их, ребятушки, в мою голову! Круши депутатов!
— С нами крестная сила! — благословляя побоище, пробасил лавочник Кузнецов.
Василий Морозов выхватил револьвер и пустил пулю поверх голов. Выстрел пришелся по царскому аксельбанту. Толпа на секунду замерла. Соловьев испуганно крикнул:
— Бежим!
Используя всеобщее замешательство, Петруша бросился влево, к пойме Уводи, надеясь схорониться в кустах ивняка. Как потом оказалось, рассчитал правильно — остался невредимым. А Миша Красильников, прыгнув через канаву, поскользнулся — упал.
— Дави его! — взревел Шанин.
Коваными каблуками — в лицо, в лицо! С размаху под ребро носком сапога! Бей, чтобы умылся красной юшкой — они любят красное! Бей, чтобы никогда не поднялся, не подбивал народ на безрассудство! Бей, чтобы другим неповадно было!
Красильников уже не дышал, а его все топтали, дав волю звериной ярости…
А Василий Морозов, отстреливаясь, убегал по Предтеченской. Заметил, что кто-то упал, кажется полицейский. Но это не остановило погони. За спиной — топот множества ног и отчаянные вопли: «Держи его! Хватай!»
Василий отбросил в канаву револьвер с опустевшим барабаном. Грудь распирало, глаза застилало едким потом. Морозов наддал из последних сил и постепенно начал отрываться от преследования. Свистки городовых зазвучали потише и голоса — воют, словно стая борзых, но отдельных слов уже не разобрать. «Вроде бы ушел», — подумал Морозов, переводя дух. Но тут из покосившихся ворот ему наперерез мотнулся Ванька Хрисапов — мелочный лавочник, вздорный молодой мужичонка, мнивший себя купцом.
— Прочь с дороги, застрелю! — пригрозил Василии.
Однако Хрисанов выбежал на середину улицы, слегка присел и, растопырив руки, стал ловить Морозова, как, бывало, в детстве, когда играли в пятнашки. «Напрасно бросил револьвер, — мелькнула запоздалая мысль, — голыми руками не испугаешь». Василий сделал обманное движение, надеясь обойти лавочника, по Хрисапов изловчился, ухватил за полу пиджака. Они упали, барахтаясь в уличной грязи. Лавочник вцепился в Морозова мертвой хваткой, без конца повторяя: «Прощенья просим, не уйдешь… Прощенья просим…» Было бы время, Василий скрутил бы Хрисапова, недаром носил кличку Ермак. По тут, изрыгая проклятья, подоспела погоня…
А потом на телеге с возницей, оповещенный о происшествии, приехал дежурный городовой. Закуривая, плюнул в сторону тела, вклеенного в жидкую грязь:
— Отстрелялся.
— Куды его, на могилки, што ли ча? — спросил возница, поворачивая Василия лицом к небу. — Дак теплый еще…
— Грузи, грузи, — сказал городовой, усмехнувшись. — Там остынет.
— Дак сердце в ем колотится, — возница запустил руку под рубаху, пропитанную кровью. — Ей-богу!
Городовой беспомощно оглянулся — на улице никого. Натешившись всласть, озверевшие обыватели подались на Талку, вооружившись кирпичами и дубинками.
— Поторопились, значит, — матерно ругнулся городовой. — Везучий, сукин сын… Ладно, давай в больницу.
Сбившись в кучку у лесной сторожки, одолеваемые тяжелыми мыслями, искали ответа — что же, собственно, произошло?
— Гадство какое! — Дунаев плюнул под ноги, оставив в покое дернину. — Выходит, разгромили нас? Скажи, Трифоныч. Как это понимать?
Фрунзе открыл глаза, разлепил спекшиеся губы:
— Все эти дни, начиная с семнадцатого октября, некоторые товарищи думали, что дарованные свободы имеют какую-то цену. Поверили манифесту… А сегодня нам напомнили: главная борьба только начинается. Тряхнули хорошенько, чтобы не раскисали, не предавались иллюзиям…

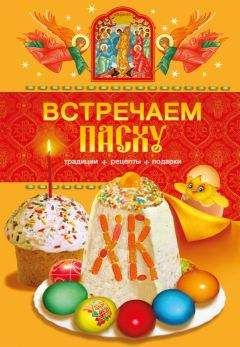
![Роберт Хайнлайн - Чужак в чужой стране [= Чужой в чужой земле, Пришелец в земле чужой, Чужак в стране чужой, Чужак в чужом краю, Чужой в стране чужих]](https://cdn.my-library.info/books/130171/130171.jpg)


