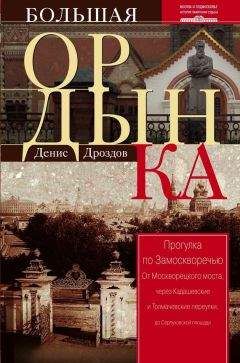Церковь должна иметь полукружия алтарной части. Мало того что их нет. Как раз над алтарем еще сто лет назад на фасаде удобно располагались на огромных каменных волютах-завитках полулежащие фигуры – парафраз на неуемную фантазию итальянского барокко. Скульптуры исчезли, вероятнее всего признанные неуместными для церковного здания. Опустевшие волюты соединил скучный, по-хозяйски перекрытый железом фронтончик. И стена потеряла ощущение дыхания живых форм, которого хотел добиться зодчий.
Движение. Понятие его кажется несоотносимым с искусством архитектуры. Между тем его решение или отказ от него – одна из самых характерных черт своего времени. Рустованные, или иначе – имитирующие кладку огромных камней, столбы цокольного этажа находят продолжение в поставленных над ними колоннах и пилястрах бельэтажа. Но резкая горизонталь карниза нарочито останавливает это начинающее зарождаться чувство роста, стремления ввысь.
Граф А. И. Шувалов.
И снова – слегка прогнувшиеся, как от непосильной тяжести, окна цокольного этажа. Огромные завершенные легкими арками окна бельэтажа. И еще более вытянутые окна тесно составленных, образующих единое целое пяти барабанов. Это новая пружина роста, лишь слегка ослабленная широкими основаниями барабанов, которые скрадывает охватившая всю кровлю ажурная решетка.
Резьба из белого камня – ее особенно любили в Москве. Применяли с незапамятных времен. Здесь архитектор пользуется ею скупо, но удивительно точно. Стены Климента оживают сплошной, еле уловимой игрой светотени, водной рябью подергивающей грузный камень. В одном месте – это замысловатые замки над окнами нижнего этажа. В другом – обрамленные крохотными топорщащимися крылышками головки херувимов над окнами бельэтажа. В третьем – гирлянды роз, соединившие основания колонн.
Едва ли не самое удивительное и далекое от московских привычек – зодчий не ищет способа выделить входы, придать им торжественность и нарядность. А ведь Москва так любила узорчатые крыльца, широкие развороты лестниц, наборы фигурных колонн. Две пологих ступеньки, маленькие белокаменные парапеты – автор Климента ничем больше не выделяет слившихся с плоскостью стены входов.
Кто-то подсказывает Елизавете Петровне сразу по восшествии на престол ввести в Петербурге для петербургских церквей пятиглавие как символ исконности православной церкви. Елизавета не возражает– в глазах подданных она конечно же должна выглядеть особенно русской царицей после курляндского правления и брауншвейгской фамилии. Впрочем, чтобы удовлетворить новое условие, достаточно сооружения пяти куполов – больших, меньших, в любом композиционном соотношении. Пять, значит, пять. Пусть москвичи сами заботятся о своей символике: каждый купол отдельно, средний больше боковых.
У автора Климента явно немосковские представления. Он увеличивает размеры барабанов настолько, что они сливаются в единую группу, становятся очередным этажом основного здания. И веселое, почти игрушечное завершение монолита церкви – белокаменные волюты под световыми барабанами-фонариками, где снова топорщатся крылышки толстощеких, смеющихся херувимов.
Настоящей данью московским обычаям была разве что окраска – темно-брусничная с белыми колоннами и пробелкой скульптурных частей. Центральный пол сверкал позолотой, боковые были выкрашены в густой синий цвет и украшены металлическими накладками – вызолоченными звездами. Так было. А может, вначале так и не было?
В воспоминаниях XVIII века мелькает упоминание о том, что был Климент любимого цвета Елизаветы Петровны – бледно-зеленого с пробелкой колонн и декоративных деталей. Брусничный цвет утяжелил постройку, бледно-зеленый вернул бы ту легкость, которая соответствовала скульптурному декору.
Петербург. Зимний дворец
Императрица Елизавета Петровна, Лесток, Андрей Ушаков
– Вот государыня, настал и ваш черед отдыхать, приятно время проводить. Государственные дела не должны беспокоить вас.
– Как и тебя, лейб-медик Да ты-то, Лесток, никак и решил ими на досуге заниматься?
– Ваше величество, так натурально после пережитых волнений разрешить себе отдохновение и развлечения сообразно сану вашему.
– За заботу спасибо, а для начала дела-то государственные сама разберу. Знаешь, есть у нас такая пословица: свой глазок – смотрок, чужой – стеклышко. Для чего бы было город городить, коли самой в нем порядка не навести.
– А чем вы собираетесь заниматься, государыня?
– И вопрос твой неуместный, и отчету ни тебе, ни кому другому давать не буду. Это ты, лейб-медик, пока суд да дело, отдохни, а мне Ушакова позвать потрудись. С ним у меня беседа будет.
– Приказали явиться, ваше императорское величество?
– Приказала, Андрей Иваныч, приказала. Знаю, дрожишь как осиновый лист, места своего теплого потерять боишься. Так вот что я тебе скажу. В деле своем ты мастак, что хошь из человека выдобудешь.
– Ваше императорское величество, я, кажется, только в интересах власти императорской.
– Вот это верно. Служил ты не матушке моей, и не племянничку моему, и не императрице покойной, а делу своему – больно заплечное мастерство тебе по сердцу. Вот я так и рассуждаю, второго такого искать да искать, так что сиди ты на своем месте, трудись теперь для моей пользы.
– Благодарствуйте, государыня-матушка, благодарствуйте… Как родителю вашему, блаженной памяти государю Петру Алексеевичу, так и вам служить буду, себя не пожалею.
– И не жалей, Андрей Иваныч, не жалей. Трудиться тебе на меня надо ой как честно. Потому что одного тебя, Андрей Иваныч, я не оставлю. Будут каждый час при тебе люди, что мне все как есть доносить станут. Уж не обессудь, много на веку своем недолгом повидала, в дурах быть не желаю. Так что в памяти себе заруби, что живешь под присмотром крепким. Не одно худо от присмотра тебе будет. За верную службу наград не пожалею, рука-то у меня щедрее отцовской: копеек считать не стану.
– Вы никогда не будете иметь основания ни в чем меня упрекнуть, ваше императорское величество!
– Будто? На будущее говоришь аль за сегодняшнее ручаешься?
– За всю жизнь свою, государыня.
– Вот и соврал, Андрей Иваныч.
– Как можно, государыня, если кто что сказал, это навет злобный.
– Коли навет, так мой, да и не навет вовсе. Тебе покойная императрица Анна Иоанновна дала указ из ссылки живописцов Никитиных слободить? Не послушался ты императорского слова. Правительница тебе два указа о них подписала, а ты смолчал, исполнять не захотел. Думаешь и со мной те же шутки шутить? Не выйдет, Андрей Иваныч! На всю жизнь запомни, со мной своеволья тебе не будет. Слуга ты, раб мой, и вся недолга. Сказала я, когда присягу у преображенцев принимала, чтоб немедля Никитиных в Петербург доставить? Сделал ты что?
– Я полагал, ваше величество, что действовать буду после письменного оформления вашего указу, для общего порядку, значит. Дело-то в нескольких днях – больше они там прожили, дождутся своей радости.
– Хочешь, чтоб мысли твои отгадала, вслух сказала? И то можно, если в первый и в последний раз будет. Не письменного ты указу, Андрей Иваныч, ждал, не порядку подчинялся. Ждал ты, голубчик, устоит ли на ногах императрица новая – мало их, правительниц, перед тобой за годы службы-то твоей заплечной промелькнуло. А коли нога у Лизаветы Петровны повихнется, тогда и врагов своих из Сибири нечего вызволять. Враги ведь они тебе, Андрей Иваныч, особливо Иван Никитич, ой какие враги непримиримые. Ты-то всем служил, а они не хотели, батюшку любили, а других государей только по его мерке выбирали. Может, и я бы им такого не спустила, да мерку-то они свою по мне прилаживали, вот потому и нужны они мне, а не только персоны писать – такое многие могут. Так вот, хоть сам лети за ними в Сибирь, хошь людей доверенных посылай, а чтоб они у меня здесь моментом были.
– Исполню, ваше императорское величество.
– А у меня и сомнения нет – захочешь, все исполнишь. А тебе по старой дружбе да памяти советую: всегда для императрицы Лизаветы Петровны хоти. В выигрыше будешь, без горестей проживешь. Что с другими-то моими указами?
– О золовке Александра Данилыча Меншикова, Арсеньевой Варваре, все вызнал. Кончилась она в сибирском монастыре – тринадцатый год пошел.
– Жаль Варвару. Умница была, хоть и уродка, не Бенигне бироновской чета. Дальше кто?
– За Алексеем Шубиным поручик послан с солдатами. Живого аль мертвого сыщут, из-под земли достанут, а сюда привезут.
– Только бы не мертвого, только бы жив еще, соколик мой, был, иначе за себя не поручусь, всех, кто в гибели его повинен, лютой казнью казню, а для начала-то царствования вроде и не хотелось бы. Так что старайся, Андрей Иваныч, крепко старайся. А вот теперь суд и расправу давай чинить начнем. Бирона первым. Где он у тебя? Далеко ль от Петербурга? Живет как?