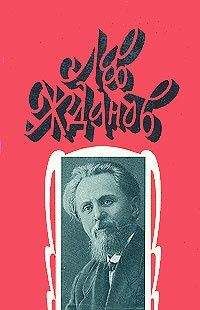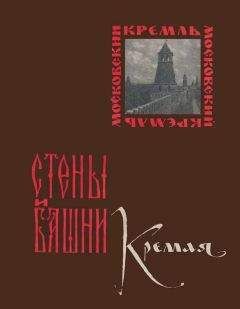— Да что ты, князенька? Негоже. Стыда нет на людях. Да кто же? Поведай, коли за тем пришел.
— Кто?! Зовет-то малый никчемный: Бориско, Горбатый князек, роду Суздальских. Шалыган ведомый… Да на таковских, слышь, людей заметывает, что и сказать — жуть да оторопь берет!
— На кого? И невдомек мне, бабе глупой! Не обыкла я в делах ваших боярских. Уже не оставь ты меня, князь. Подмоги. Научи. Ближе всех почту тебя. Превыше всех станешь. Выручи, подсоби державу за Ванюшкой закрепить, князь-милостивец. Твоя сила и на Москве. Она же надо всем Новгородом. Уж повыручи!
И со смиренным видом Елена приподнялась и отвесила поклон князю Андрею.
Зорко поглядел на нее лукавый боярин. Потом еще раз огляделся, даже носом потянул воздух, словно в нем почуял что-то знакомое. Потом откашлялся слегка и снова заговорил в тон Елене, так же мягко и смиренно:
— Где же нам дела вершить… Прошли времена, миновали денечки красные. Покойный государь-царь всем крыла-то поотшиб. Да и поделом. Руси на пользу единого владыку ведать, единому хозяину под рукой лежать. Вот того дела ради и я к тебе со своей речью пришел. Вижу, верю: от сердца говоришь. Авось, хоша и небольшим, — а попомнишь слугу твоего верного, как царство за малолетним сыном да за собою добре закрепишь.
— Попомню, видит Бог, попомню! — как бы скрепляя именем Божиим осторожный торг, подтвердила Елена.
— Ну, слухай: от самого, от княж Юрия, от дяди государева… так Бориско баял, — позыв был ко мне.
— Ахти мнечушки?! Что ты? Да слыхано ль? Да еще авчерась…
— И я то же Бориске сказывал: не вчерась ли день мы крест целовали племяннику? Можно ль мне ныне за дядю стать?.. На это мне Горбатый: "Как сам знаешь! — молвил. — А, лих, у князя Юрия тебе бы за отца быть, коли поможешь ему. А при малогоднем царьке — евонные родичи тебя и со свету сживут, не то честей дождешься". Так, ехида, сказывал. Плюнул я и прогнал его!
— И добро сделал. Нешто я не знаю, что одной родней земли мне не склеить? А как мыслишь: направду от князя Юрия подсыл был? Али так, брехал Горбатый.
При этом простом, как казалось, и естественном вопросе Шуйский весь насторожился и на миг как бы задумался. Потом быстро, таинственным шепотом заговорил:
— Толковать-то можно ль без опаски? Уж я все. Уж куды ни шло… Уж пущай там после и голова долой.
— Говори… все говори! Безо всякой опаски!
— Уж как попу на духу… Как ты — люду всему и царству целому матерь родная. Слышь, не один Бориска. Еще мне подсыл был, уже явно от князь Юрья. Дьяк тута есть княжой, Тишков, сын Третьяк.
— Третьяк Тишков, баешь?
— Он, он самый. Лихой человечишка. И прихаживал он ко мне все с речами улестными: к князю Юрью бы на службу шел, на Дмитров бы с им сбирался. Покуль великий князь мал, — и сила-де мочь боярская старину поновить: старшого в роде на стол посадить. А зато и постановщикам всем, которые тому помочь явят, нехудо будет же. Многие старые вольготы князь Юрий своим пособникам и велькомочным людям подаст и новых добавит. А угодья, да земли, да поминки — то не в счет. Я сказываю Тишкову: "Вечор мы крест целовали, и с удельным твоим. А ноне на сговор на лихой идти? Гоже ли?" А Тишков на ответ: "Как князем крест целован? Нешто по своей воле? Все входы-выходы дворцовые стражей переняты были. Не присягни, так и жив не выйдешь. Такова присяга — не крепка слывет. И поп за такую невольну присягу разрешит. И Бог простит, коли не держать ее". Немало такого все прибирал улестник. Все к князю на совет звал.
— Ты же не пошел, вестимо? — опять с самым прямым взглядом, со спокойным выражением лица спросила, словно мимоходом, Елена.
Пытливым взором так и пронизал ее всю Шуйский.
"Дурой ли она прикинулась али взаправду еще не донесли ей покудова? Не ведает дела?"
Такая мысль мелькнула в мозгу у старого заговорщика.
Колебаться долго нельзя было. И он решил сыграть вовсю.
— Грешен, княгишошка-матушка! Не утерпел, пошел. Нынче же и был, словно недужного навестить собрался. В больных князь сказывается. Только бы к юному царю на поклон не пойти.
— Знаю. Сама догадалась. Что ж он тебе?..
— Да все то ж, что и послы его: к нему бы ехать. И все иное-прочее. Я и ему молвил: "Лепо ли?" А он уж на присягу на подневольную и наметывать не стал, одно говорит: "Брата Василия не стало, — и наш черед близко. Его извели. И нам за ним дорога обоим: мне да Юрию… Так неужто ждать смерти неминучей да шею под обух нести?" Я ему: "Что ты, княже? Нетто племянник государь на дядей на родных что помыслит?" А Юрий князь мне: "Не племянник, а те, кто и брата извел, и племянного изведет с маткой, со княгиней его. Сам потом на стол сядет… Землю поганым предаст".
— Кто же это да кто? — нетерпеливо спросила Елена, начиная ощущать безотчетное беспокойство. Хотя она и понимала, что Шуйский — враг ее и сына, что он лукавит, стращает ее… Но леденящий душу призрак "порчи" дворцовой слишком часто проходил здесь по всем переходам и покоям… Слишком много жертв унес он, чтобы не вздрогнуть даже при одном имени этого чудовища…
— Кто? Не чужой тебе человек… Кто и в других краях у людей ведуном слывет… На кого и в Литве поклеп был, словно он круля Лександра извел, сам короны домогаючись. Будто для того же он и Василия свет Ивановича испортил… боль огневую да гнилую навел… Уж не взыщи; на дядю на твоего, на Михаила Глинских, Юрий накидывал: он де сбирается…
— Врешь! Брехня то все! — не утерпев, крикнул старик Глинский, появляясь на пороге. — Брешет твой князь Юрий. И порчу сами на всех пущаете. Я докажу. Вы слыхали? — обращаясь к Захарьину, Шигоне и Овчине, тоже вошедшим в покой, сказал Глинский. — Злодейство они со своим князем Юрьем удумали против великого князя и государя. В тюрьму его… Зови, кто там есть, Овчина… Я скажу, куды вести крамольника…
И Шуйский, и Елена были поражены этим приказанием, нежданным появлением Глинского и бояр из соседней комнаты.
Но Шуйский скоро овладел собой.
Криво улыбаясь, он заговорил:
— То-то, как вошел я, словно мне в нос твоим тютюном знакомым так и ударило… Челом бью и тебе, князь, и вам, бояре первосоветники. Что ж, коли приказ ваш и воля княгини нашей, — берите меня, худого человечишку, князя Андрея, Шуйских роду, волостеля новгородского, ни за что ни про что в оковы, за колодки сажайте, киньте в мешок темничный… Всего я на веку видывал. А правое ли то дело, — Бог да совесть пускай вам скажут. А что я княгине толковал, вы же слышали.
— Слышали, слышали! — подтвердил Шигоня. — Что же, как прикажешь, матушка-княгиня? Пустить ли князя? Али, по слову князь Михаила, за заставы посадить, пока дело не прояснилось, пока за удельного Димитровского. и за самого Шуйского Андрея его пособники, нахлебники да доброхоты горой не встали?.. Гляди, в те поры — и не взять в руки никого. На Бога одна надежда будет.
Елена, нерешительно смотревшая то на бояр, то на Овчину, который у дверей ждал только приказа, медленно, как бы оправдываясь в чем-то, проговорила:
— Что уж, бояре… Где уж мне? Я и то — не москвичка. Нешто я знаю, как да что тут водится? Делайте, как надо лучше сыну бы моему, государю вашему поспокойнее было.
— А коли так, иди, Овчина! Зови сторожу! — подтвердил и Шигоня приказание Глинского.
Захарьин, опустя глаза, молчал.
Шуйский, услыша приказ Шигони, окинул взором молчащего Захарьина, поглядел на Глинского, на Шигоню и словно про себя пробормотал:
— Сам виною… Сам и казнись… И будь по-вашему, коли не бывать по-Божьему. Челом бью, великая княгиня, что ласкова была со мной, на правду показывала, обещала заступку сильную, говорил бы по душе, как мыслю.
— Я что же?! Я, как бояре, — не выдержав волнения, задетая укоризной князя, проговорила княгиня и, словно не желая дальше видеть, что тут произойдет, отдав всем поклон, вышла из покоя.
Прошло пять дней с этой ночи.
Сыск о "воровском изменном деле", затеянном князьями Шуйскими и Вельскими вместе еще со многими другими, рос и разрастался, как сказочное тысячерукое чудовище, захватывая в свои когти все больше и больше лиц. Конечно, привлекались те, кто когда-либо проявил себя недоброхотом Глинским, выскочке Шигоне и их приспешникам. Захарьин неизменно оставался в стороне, не мешая, но и не одобряя действий правительницы и двух своих сотоварищей.
Сначала захваты и аресты производились осторожно, оглядчиво. Хватали больше незначительных людей по оговорам наемных и добровольных доказчиков вроде Яганова, Яшки Мещерина и других.
Когда же выяснилось, что часть Шуйских, Вельских, Воронцовых, с самым крамольным Михаилом Семенычем во главе, Оболенские почти все и многие другие открыто стоят за малолетнего царя, надеясь если не захватить всю власть, то поделить ее с Еленой и тремя первосоветниками, тогда последние осмелели. Особенно придало им решимости вторичное торжественное обещание князя Андрея Старицкого в общую свару не мешаться и ни за кого не стоять.