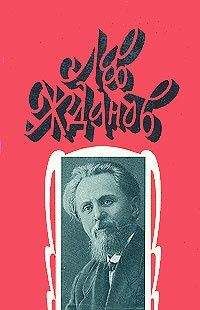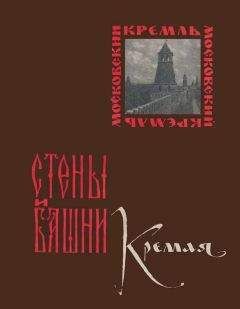— Чего бы лучше, коли так оно, княже. Честь тебе и спасибо великое от нас за князя великого, государя Ивана Васильича, за матерь его владычную. А слышал, что чли нам тута? Черным на бело писано есть. Да и сами послухи не отрекутся. Хоша ты — князь, высокой крови державной, цесарской, а придется тебе на очи послухов ставить.
— Что?! Мне?! Со смердами, с закупами моими и чужими становиться на очи! Мне? — вырвалось с неудержимым негодованием у Юрия. И бледное раньше лицо побагровело.
— Вот, бояре, до чего мы дожили! — неожиданно поднял голос Андрей Шуйский среди тяжелой воцарившейся в палате тишины. — Только землей покрыли господина, волостеля старого! Вижу, спета моя песенка. Чую, как суд правый рассудит… Так хоть правду реку напоследок. Нетто гоже первых князей да бояр — на очи со смердами ставить? Убейте нас, затопчите нас… пытайте… Да чести порухи не делайте! Над честью, над родом да именем, что веками строились, от прадеда к правнуку идут, — и Бог не волен, не то что великий князь. А как я правду сказал, — послухи мне наши, единые, несменные: София Святая да государь великий Новгород, что много раней Москвы на всей Руси ведом был!..
И, словно помолодевший, со сверкающим взором, с разлетевшейся от сильных движений окладистой бородой, князь челом ударил всей думе и, не опускаясь на место, вызывающе стал оглядывать всех, ожидая, что будет после его слов.
Искрой пробежали слова князя по всем сердцам.
Прямые сторонники удельного и Шуйских заволновались, так и забегали глазами, ища какого-нибудь оружия. Скрытые единомышленники, среди думцев и тех, кто был допущен в палату послушать суд, — эти все сразу заговорили:
— Правду молвит князь… Негоже… Что за новина нескладная да негожая? Слово княжое — ста холопей дороже, десятка бояр стоит. Не бывать тому, что и не слыхано досель!..
Прямые сторонники Елены, Ивана и Глинских, которых было раз в десять больше, чем первых, сначала молчали. Их ошеломила речь и вдохновенный вид Андрея Шуйского. Правда, храбрый он был воевода. Но на Москве, в палатах дворцовых всегда сдержанный, хотя на вид и суровый немного. И вдруг, на глазах, — переродился князь. Всем по душе ударили эти слова, этот голос.
Но расчетливые, уравновешенные московские царедворцы, княжие приспешники скоро овладели приливом добрых чувств, некстати нахлынувших на них, и громче кого-либо иного нагло заголосили:
— Молчать, крамольники! Али не дума здесь! Не суд государев?! Предатели, залетни! На словах — чисты, а на деле — Русь губите, крошите, врагам предаете сварой межусобной, непокорством государям своим!.. Нишкните, окаянные!
От окриков к взаимной перебранке перешли и те и другие. Вдруг, неизвестно откуда добытые, засверкали ножи поясные, кинжалы, а у воевод — и мечи зазвенели, выскакивая из коротких ножен… Вскочили с места, сгрудились среди палаты, смешались все.
Быстро поднялся тогда и митрополит, который до сих пор сидел бледный, нерешительный, с печальным лицом. Его обычно скользящий, уклончивый взор тоже загорелся внутренним огнем. Не мог вынести святитель московский, чтобы в самой думе государевой до свалки, до кровопролития между боярами дело дошло.
Забыв обычную осторожность, владыко очутился среди самой гущи, в толпе, громко восклицая:
— Христос среди вас, дети мои?! Почто распять хотите Его сызнова? Почто родную кровь христианскую пролить тщитеся!.. Стойте, чада! Христос с вами и среди вас!
И золотое нагрудное свое распятие, которое держал в протянутой руке, стал прямо подносить к губам тех, кто стоял, как враг, один против другого, только-только готовясь нанести удар.
— Ахти мне!.. Бунт… Кровопролитие! — закрыв лицо руками, вскрикнула Елена и хотела кинуться прочь [5].
Ребенок-царь при словах Шуйского уже начал сильно волноваться. Не столько смысл их, сколько звук самого голоса и вид боярина повлияли на чуткую душу младенца. Правда и скорбь глядели из глаз, звенели в этом голосе.
Когда же началась ругань и сверкнула сталь, Иван дико вскрикнул, кинулся на грудь Овчине-Телепню и забился в судорожном плаче.
Так и унес его быстро из палаты Овчина.
Елену переняли и остановили Глинский и Шигоня.
— Успокойся, государыня-матушка. Гляди, что буде. Все надумано! — внушительно, хотя и негромко заверил ее печатник.
Она оглянулась.
Бояре, готовые раньше кинуться друг на друга с ножами, безотчетно, по привычке целовали крест митрополичий, и прикосновение холодного металла к разгоряченным лицам словно отрезвляло их. Руки невольно опускались, пальцы разжимались, ножи укрывались в ножнах под полами кафтанов и шуб, откуда были добыты.
Но в то же время стража, руководимая Михайлой Шигоней, князьями Димитрием Вельским да Никитой Оболенским-хромым, втесалась в кучки противников, не успевших занять еще свои места. Ратники, сторожившие вход, тесным кольцом оцепили всю дворню, всех, кто пришел за удельными князьями и за Шуйскими и проник в палату.
По указанию москвичей были отделены и выхвачены, оттиснуты к выходу, в общую кучу и те из думцев, кто себя сейчас так неосторожно выказал сторонником князя Юрия и Шуйских.
Как затравленные волки, с понурыми головами, растрепанные, бледные стояли они, нежданно-негаданно из судей попав в подсудимые.
А "москвичи" снова заняли места на скамьях, где стало гораздо свободнее теперь.
И с нескрываемым злорадством глядели победители на побежденных, забывая, что завтра может прийти и их черед в той великой игре, которую давно задумали и повели против всей земли "собиратели земли", князья и государи московские.
При виде такой картины Елена совершенно успокоилась. Даже, против воли, глумливая, злорадная улыбка промелькнула у нее на губах. Она снова заняла свое место.
А Шигоня уже как ни в чем не бывало дальше "суд" повел.
— Вот, князья и бояре, дума ближняя государева! Сами видели: без огня пожар занимается, без ветру Русь шатается. А все — князь-болярин Шуйский со присными да князь Юрий удельный ни при чем. Ваша бы кровь пролилась, им на утеху, государям великим нашим, всей земле на скорбь да убыль. Того ли волим? Пока не взяты за поруки за крепкие, за приставы Шуйские со друзьями со своими и сам князь Юрий, то и тиху не быть по царству. Как же постановите, князья-боярове честные? Быть али не быть по сему?
— Быть! Быть! — зашумели, сливая голоса, все "москвичи", вскакивая даже с мест и махая руками.
— Так вот, господарыня великая княгиня, сама слышать думское порешение изволишь. Как твоя воля на то? — обратился по чину печатник и к великой княгине, в отсутствие Ивана получившей решающий голос.
Елена поднялась, отвесила поясной поклон советникам и громко, уверенно, хотя и в смиренном тоне, заговорила:
— Бояре, князья и вся дума ближняя государева. Не вчера ли вы крест целовали — сыну моему на том, что станете служить ему и во всем добра хотеть! Так вы по тому, как присягали, и делайте. Ежели зло какое является, в силу ему войти не давайте. Как вы постановили, так и мы волим: сын мой, великий князь московский да и прочих, царь всея Руси, и я, матерь его родная, на правление государское от покойного государя вашего ставленная…
Снова отдала поклон и медленно удалилась через те же небольшие двери, из которых пришла, окруженная рындами и ближними боярами.
А стража густыми рядами, как железной стеной, обошла теперь и князя Юрия, и Шуйских, и всех, кто из ближних к ним еще не схвачены были.
— Прости, брат! — смущенно отвесил поклон Юрию князь Андрей, не ушедший за Еленой, и тоже двинулся прочь.
— Прощевай, брате. Спаси тя Бог за заступку да за выручку, какую ноне брату родному явил. Так и тебя Господь не оставит! — вызывающе, глумливой насмешкой кинул вслед уходящему Юрий. — До свиданья… Гляди, скоро свидимся!
И пророчески прозвучали эти слова под сводами палаты, где жаркий воздух после борьбы был наполнен запахом тления и злобы…
Месяцев пять прошло со времени ареста Шуйских и князя Димитровского, Юрия.
Стоит середина апреля 1534 года. Да такая веселая, дружная весна наступила после тяжелой, долгой зимы. Дни ясные, теплые, солнечные. На глазах трава из земли пробирается, зеленеет-кудрявится. Почки везде на деревьях еще к Страстной налились. А на Пасху — только-только не лопаются, последними усилиями сдерживая в своих коричневатых блестящих скорлупках бледно-зеленые клейкие первые листочки. Земля отдыхает после зимней стужи и нежится в лучах, в тепле солнечном, которое и отдает по зорям обратно воздуху.
Отстояла вечерню в своей дворцовой церковке княгиня Елена и засветло еще с великим князем, с ближними боярынями и прислужницами вышла в сад, разбитый затейливо при женских кремлевских теремах. Сквозь сеть безлистых еще ветвей темнеют и проглядывают высокие, толстые стены, немногим только уступающие наружным кремлевским стенам и охраняющие этот уголок царского нового дворца.