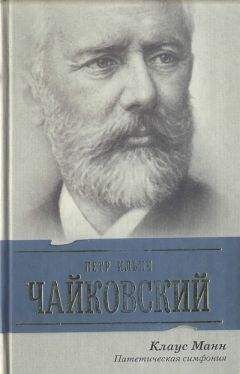Бледное лицо Зилоти на мгновение залилось краской, от которой на щеках его остались лихорадочные красные пятна.
— Как быстро ты прославился! — произнес Петр Ильич, все еще глядя на него.
— Вы Антона Рубинштейна в последнее время видели? — спросил Зилоти.
— Я редко с ним встречаюсь, — Петр Ильич наконец отвел взгляд от Зилоти и зашагал дальше. — Он по отношению ко мне, как всегда, довольно строг и сдержан. Я боюсь его почти так же сильно, как и почитаю. — Бродский рассмеялся, а Зилоти остался серьезным.
— Ничто не сможет возместить мне потерю его брата, — произнес Чайковский, рассеянно глядя перед собой. — Нашего доброго Николая мне страшно не хватает… Да, Бродский, — сказал он, неожиданно обращаясь к старшему другу, — стольких уже не стало… — Бродский кивнул с какой-то неловкой торжественностью.
Они стояли на открытой площади перед вокзалом. Снег тускло поблескивал в бледном предвечернем свете. Было довольно холодно. Над заснеженными домами возвышалось кристально чистое небо.
Музыкальный критик Краузе, догнав троих ушедших вперед русских, с потешным поклоном, обращенным к зданиям, экипажам, санным упряжкам, пешеходам и всей площади, произнес:
— Позвольте мне представить вам Лейпциг, маэстро, музыкальный центр Германии! — Он, примерный саксонец, произносил «п» в слове «Лейпциг» чрезвычайно мягко, при этом неподражаемым, но приятным образом растягивая имя своего родного города. Все рассмеялись. — Музыкальный центр государства с тех пор, как здесь творил Мендельсон-Бартольди, — торжественно добавил низкорослый господин со съехавшим на кончик крупного носа пенсне.
Остановили санную упряжку.
— Какой потешной они формы, — заметил Петр Ильич, садясь в сани.
— Никакая она не потешная, — ответил Бродский, — просто немного отличается от формы наших саней дома.
Повозка была открытой, и все укутались в покрывала. Петр Ильич с Бродским и Зилоти заняли заднее сиденье, Фридхайм и Краузе сели напротив них. Музыкальный критик Краузе предложил:
— Лучше всего завезти багаж маэстро в отель и сразу ехать дальше, к другу Бродскому, чтобы чем-нибудь горячим подкрепиться.
Петр Ильич посмотрел на него насмешливо и в то же время одобрительно.
— Эти немцы — превосходные организаторы! — заключил он. — Чем-нибудь горячим подкрепиться — это блестящая идея.
От встречного ветра у них раскраснелись щеки и носы, только лицо Зилоти осталось бледным, цвета слоновой кости, и в наступающих сумерках оно, казалось, излучало свет, как будто было из какого-то другого материала, а не из плоти и крови. Петр Ильич был очень возбужден и много говорил.
— Вы не представляете, как вам повезло, что я один сошел с поезда, — говорил он, смеясь. — Дело в том, что мой агент Зигфрид Нойгебауэр намеревался сопровождать меня в Лейпциг, и только при помощи изощренных хитростей мне удалось этого избежать.
При упоминании имени Нойгебауэра общество заметно оживилось: они все были с ним знакомы, и все смеялись и бранились наперебой.
— Ах, этот Нойгебауэр! — кричали они. — Это чудовище, этот шут!
Петр Ильич веселился от души, он смеялся громче всех.
— Вот именно, именно — чудовище! — Он с удовольствием повторял каждое отдельное прозвище, которым характеризовали Зигфрида. — Однако, я вас уверяю, этот человек обладает некой демонической силой. Он неистребим и невероятно живуч. Вы думаете, мне удалось от него избавиться? Ничего подобного! Утром я его по всем правилам вышвырнул вон, а вечером господин Нойгебауэр сопровождал меня на концерт, хотя у меня не было ни малейшего желания куда-либо идти, и уж тем более с ним. В обществе господина Нойгебауэра мне пришлось выслушать «Реквием» Берлиоза под художественным руководством господина Шарвенки — между нами, это бы и в отсутствии Нойгебауэра было достаточно мучительно. Шарвенка вел себя по отношению ко мне уязвленно, поскольку господин Нойгебауэр как на утро, так и на вечер договорился о моей с ним встрече, хотя прекрасно знал, что я не явлюсь. В общем, мало того что я умирал от скуки, так со мной еще и плохо обращались. Уж этот мне Зигфрид! Таким я всегда представлял себе «лесного отрока» Рихарда Вагнера! Я уже боюсь спрашивать у портье, есть ли для меня почта: непременно будут по крайней мере две телеграммы от него, да еще какие! Одна полностью опровергает то, что пространно сформулировано в другой, каждая из них состоит из пятидесяти слов и стоит целый мешок с золотом, а в сумме они представляют собой полную неразбериху!
На протяжении всего пути они говорили об агенте Нойгебауэре: каждый пережил с ним нечто ужасное, каждый мог рассказать связанную с ним смешную историю. Артур Фридхайм утверждал, что однажды на открытых подмостках, на виду у всей публики влепил ему пощечину, поскольку Нойгебауэр хотел в заключение концерта обнять и поцеловать его.
Профессор Бродский жил на окраине города, на тихой и опрятной улочке, застроенной фешенебельными виллами. Дома здесь были похожи на уютные миниатюрные рыцарские замки с многочисленными эркерами, башенками, балконами, круглыми окошками.
— Как мейстерзингеровская декорация в провинциальном театре, — смеялся Петр Ильич. — При этом жить здесь, должно быть, очень даже приятно. Все здесь так по-обывательски ухоженно и уютно.
Квартира Бродского располагалась на втором этаже одного из миниатюрных саксонских рыцарских замков. Когда они стали подниматься по лестнице, наверху появились две дамы, которые радостно их приветствовали. Это были жена Бродского и его свояченица, обе пышного телосложения и похожие друг на друга. Их круглые и приветливые лица были обрамлены высокими прическами, и у обеих изо рта торчала длинная сигарета, зажатая между мягкими губами. Госпожа Бродская была одета в японское кимоно черного шелка, вышитое крупными желтыми цветами, а свояченица — в русскую блузу белого льна с по-военному накрахмаленным воротом-стоечкой с красной вышивкой. Бродский обнял свою жену, которая немедленно стала ему выговаривать за то, что он ехал в открытых санях.
— Ну как же, дорогие мои дамы! Ведь такой чудесный вечер! — воскликнул Петр Ильич.
Он уже встречался с госпожой Бродской в Москве, а теперь был представлен и свояченице. Он с шаловливо-утрированной старофранконской галантностью глубоко поклонился обеим дамам. Госпоже Бродской он вручил те самые алые розы, которые ему преподнес господин Краузе.
В квартире пахло елкой, пряниками и самоваром. На круглом столе посреди комнаты красовалась елка — разлапистая, ровненькая, ладная елочка, в изобилии наряженная разноцветными шарами, яблоками, разнообразными кренделями, восковыми ангелочками и прочими фигурами. Горели свечи, наполняя комнату своим ароматом и мягким мерцающим светом.
— Да, Петр Ильич, в вашу честь я зажгла на елке новые свечи, — сообщила госпожа Бродская.
Петр Ильич был в восторге.
— Ах, рождественская елка, настоящая рождественская елка! — неустанно восклицал он. — Это чудесно! Наконец-то я начинаю осознавать, что я действительно в Германии! Эх, Бродский, старина Бродский, ты же стал настоящим немецким профессором и главой семейства. Хотя нет, ты при этом остался замечательным русским. Вот, я же вижу: самовар, чайные стаканы и вишневое варенье, и сигареты с длинным мундштуком, и бутылка водки, и любимые конфеты! — Он взял одну из светло-коричневых карамельных конфет. Вне себя от восторга, он расхаживал по комнате. — И вот, в книжном шкафу, чего там только нет: Пушкин и Гоголь, и «Война и мир». Я так рад, что сюда приехал! Здесь прямо как в России! Как здесь хорошо, как хорошо, — проговорил он тихо, сдерживая слезы. — А на самом деле я же в Германии, — добавил он. — Вот рождественская елка, вот маска Бетховена. У вас тут собрано все самое лучшее из обеих стран.
— Вам нужно чаю попить, Петр Ильич, — позвала госпожа Бродская. — Нельзя же только болтать! Вам главное — попить чаю, и настоящих пирогов я вам напекла.
— Разве здесь не замечательно? — обратился Чайковский к Зилоти, который остановился рядом с елкой.
Прекрасное лицо Зилоти было обращено к горящим свечам.
— Чудесно, — ответил он серьезно.
— Нет-нет, меня не заманили в «логово врага», я не «попал в ловушку», — воскликнул Чайковский, отворачиваясь от Зилоти и обращаясь к остальным. — Это я, должен вам сказать, вбил себе в голову, и мне было жутко страшно. Но теперь я счастлив.
— Вам нужно чаю попить! — повторила госпожа Бродская с игривой настойчивостью, а свояченица в русской блузке отозвалась задорным эхом:
— Теперь вы просто обязаны выпить чаю, Петр Ильич.
Петру Ильичу подали чай. Отведав московских и местных лакомств, он обратился к Бродскому:
— Ты меня принимаешь как великого князя! Как у вас чудесно! Если бы не ваше гостеприимство, я бы сегодня вечером здесь наверняка скончался. Ты уже спас мой скрипичный концерт, а теперь ты спасаешь мне жизнь, и я не знаю, какая из этих заслуг более похвальна. Я в вечном долгу перед нашим стариной Бродским, — обратился он к музыкальному критику Краузе, который очень внимательно следил за беседой, теребя свою остренькую бородку. — Наш замечательный Бродской взялся опекать мой скрипичный концерт, когда никто о нем и слышать не хотел. Я посвятил его своему другу Ауэру, и мой друг Ауэр утверждал, что польщен и восторжен. Восторг его был выражен в нежелании исполнять мое произведение: по мнению друга Ауэра, его невозможно играть, оно слишком сложное. Вы можете себе представить, как подобная критика из уст крупной величины сказалась на популярности моего бедного концерта. Он залеживался на полках, никто не решался за него взяться, пока не появился наш отважный Бродский. Он приложил все усилия и вывез мой бедный старый концерт — да, к этому времени он уже успел состариться — в Вену. И какая ему от этого польза? Самый влиятельный критик на Дунае господин Ханслик писал, — Петр Ильич мрачно откинулся в кресле, дословно цитируя рецензию Ханслика, с наслаждением выговаривая каждое слово: — «Мы знаем, что в современной литературе все чаще стали появляться произведения, авторы которых склонны к описанию всякого рода отвратительных физиологических явлений, в том числе мерзких запахов». — Петр Ильич говорил очень серьезно, для убедительности подняв указательный палец. — «Такую литературу можно назвать вонючей. Концерт господина Чайковского наглядно продемонстрировал, что вонючей бывает и музыка».