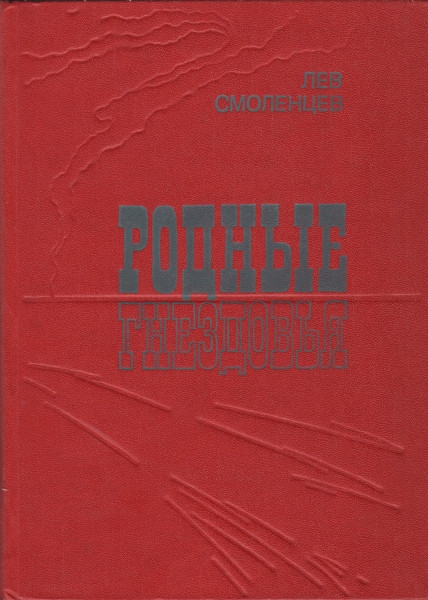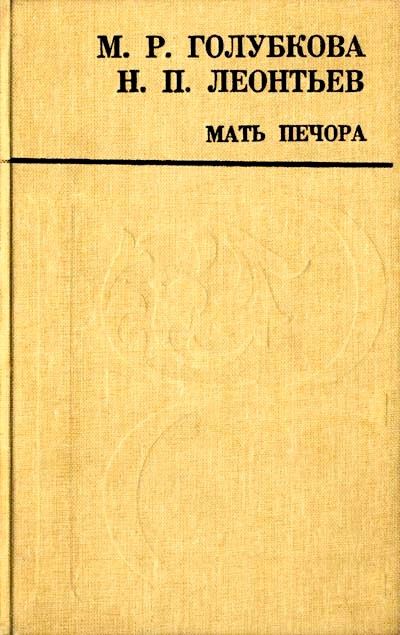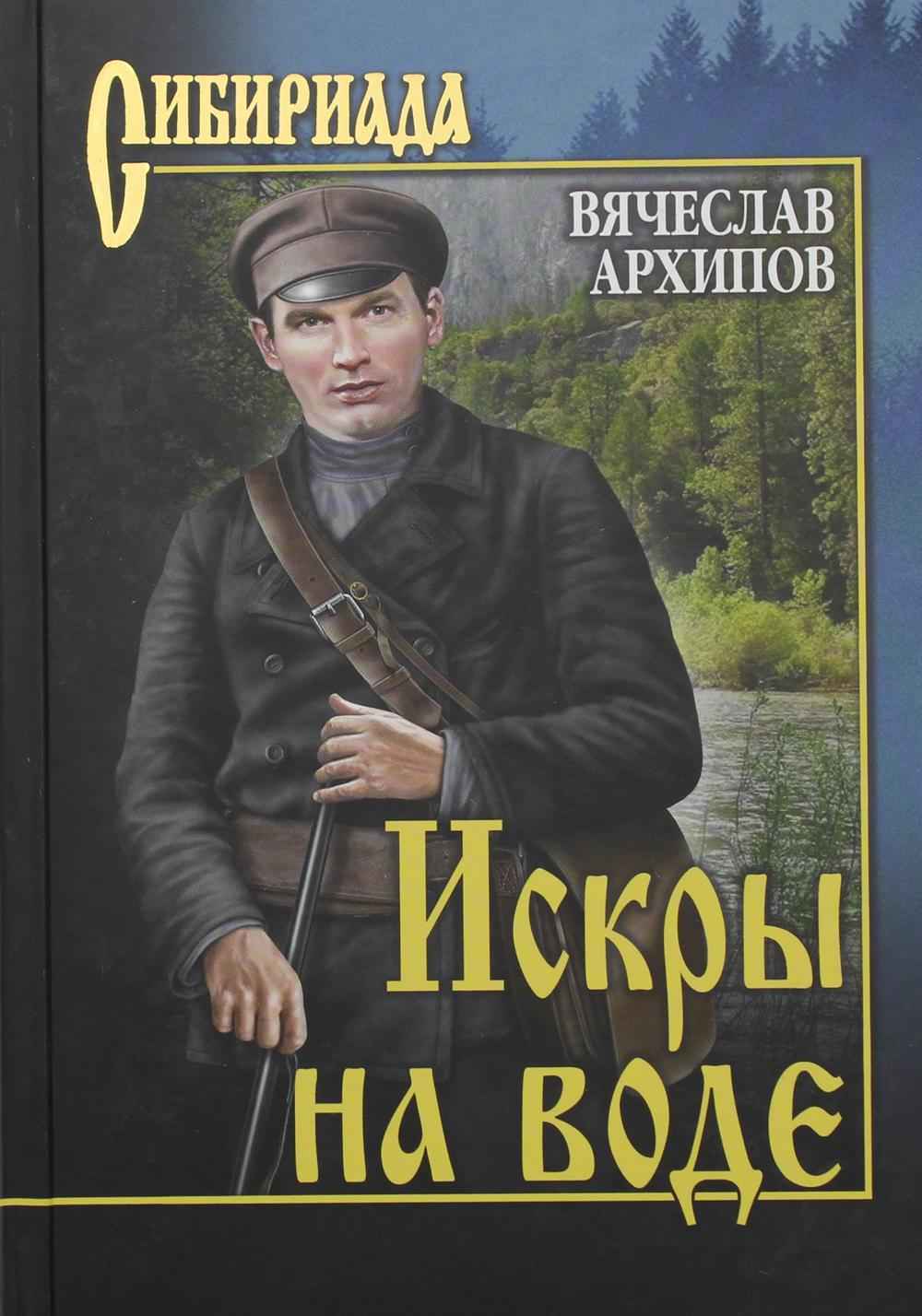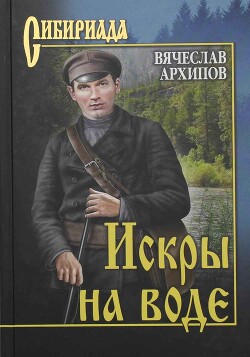— живем господними дарами: не сеем, не пашем и птичу не ростим — бог дает.
— Совсем пашни нет?
— По десятине на хозяйство для жита [7].
— А картофель, капусту, свеклу, морковь, лук садите?
— Миловал пока господь.
— Как «миловал»? — не понял Андрей.
— Все это бесовски ягоды, а картофь — не иначе как диавольски яицы.
— Да как же такие полезные на Севере овощи могут быть бесовскими?
— Козни сатаны неистощимы, Андрей Владимирыч. Чай, табак — все это его наущения, — назидательно и убежденно начал наставлять Ефим.
Когда выезжали из Усть-Цильмы, казначей шепнул Андрее: «Ефимко Мишкин — староста и наставник-грамотей на Цильме. Это у старообрядцев высшая власть на селе: они крестят при рождении, отпевают умерших, снимают грехи с живых. Зачастую он один на селе грамотный человек, потому зовут наставником, начетчиком или грамотеем. Так что учтите». Журавский, решив, что спорить бесполезно, сменил тему беседы.
— Ефим Михайлович, до Трусова река богатым лугом текла, а дальше как?
— Через полста верст вы со Степком речкой Мылой пойдете, кряжи тимански вас тамока подхватят, луговы бережины тамока узки, зато дичи и пушного зверья куда боле нашего.
— Почему река Мылой называется?
— Вертка, вишь, она и с каменьев бежит, пену завсе навроде мыльной несет. До Тиману токо два выселка и встренутся: Мыла да Савино. Бобрецовы, охотники, в них проживают, мезенски оне.
— Бобрецовы? Охотники на бобров? — не понял Журавский.
— Нет, прозванье их роду тако — фамиль, по-вашему. А бобры ране водились в здешних местах, потому остались в названьях Бобровы ручьи, виски, протоки.
— Что такое виска?
— А ими озера с речками или промеж себя сообщаются.
— Протоки, значит?
— Нет, протоки — это обходно русло речки.
— Бобрецовы тоже скот разводят?
— Держат скотину, но помене. Промышляют они.
— Что промышляют?
— Ну, охотничат, по-вашему. Народ они простой, странноприимной, но темной и победнее тутошних.
— Как понять — «странноприимной»?
— Всякого принимают денно и нощно, не спрашивая, кто таков.
— Но и в остальных ваших деревнях — то же самое.
— То же, да не больно гоже. Женка, вишь, тебе из-под опечка другу посуду поставила, потому — мирской ты, в церкви крешшоной кукишем.
— Как «кукишем»?
— Ну, троеперстием, а надо двумя перстами... Однако, соснем-ка малость, а то женка, слышь, новой день починать принялась... — Ефим замолчал, ворохнулся, ища более удобного положения для сна, вздохнул и неожиданно с завистью произнес: — По пригожим, баским местам вы пойдете! Кабы не страда — ей-богу, убег бы с вами...
* * *
Часам к восьми утра Степан с Андреем собрались в путь.
— Степко! — крикнул ладивший подобие седла староста. — Веди-ко свово мерина суды, прикинем... Вот так-то сподручнее будет, — поднялся с крыльца Ефим, поднося к лошади свою поделку. — Ты верхи-то езживал? — обратился он к Журавскому, натягивавшему охотничьи чуни, выделанные и сшитые из мягкой просаленной кожи. — Садись-ко, спробуй.
— Хорошо! — откровенно и радостно воскликнул Андрей, когда староста закончил подгонку. — Седло словно жокейское.
— А како ж надоть? — удивился староста. — Жопейско и ладил. Степко! Давай суды поклажу Андрей Владимирыча, чтоб ему не слазить боле... Ну, трогайте с богом! — перекрестил их широким двоеперстием наставник и пошел открывать калитку.
— Прощевай, Ефимко. Сробишь все — в долгу не останусь, — намекал на какие-то свои дела Степко.
— Спробую, Степко! — в тон ему отвечал староста. — Токо ты добром доведи до Левкинской Журавского. Коло Дедковского озерка угольны осыпи ему покажь да на мыльски каменья своди...
«Вот она, некрасовская Русь! — думал Андрей, легко покачиваясь в такт плавной иноходи мерина, — «... ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная...»
Верстах в шести от Трусова в береговом обрыве реки Журавский увидел тонкий прерывистый пласт, очень напоминающий своим видом каменный уголь. «Надо сверить находку с дневниками Чернышева», — подумал Андрей и набрал черных блестящих камешков в заплечный ранец. Степан торопился, и Андрей не стал тщательно осматривать окрестности, дав себе зарок еще раз побывать здесь.
Вскоре они переехали через обмелевшую Цильму и версты через три, к изумлению Журавского, выбрались на хорошо накатанную и оканавленную дорогу, уходящую в светлый березовый лесок.
— Трахт, — пояснил Степко, — от городу Архангелу до самой Усть-Цильмы идет.
По тому, как он произнес это, Андрей понял, что Усть-Цильма в понятии Степана куда значимее Архангельска.
— Верст пятнадцать пробежим трахтом и упремся в Мылу, — весело продолжил Степан.
— И сколько останется нам до Савина?
— Впрямки — верст пятьдесят, по речке — сотня. Недалече, — успокоил Степан.
— Все по тракту?
— Дивья бы! — рассмеялся Степан. — После Мылы через восемь верст свернем в таки урманы и крутики, где токо шишко ходит!
— Кто такой шишко, Степан?
— Леший, по-вашему.
— А...
Селение Мыла, ютившееся в узкой речной долине десятком приземистых потемневших домов, как и обещал Степан, открылось им только после того, как они уперлись в него, съехав с крутого глинистого холма, поросшего угрюмо-дремотным ельником. Прямо под окнами домов светлым говорливым ручьем струилась река, впадающая неподалеку в Цильму.
— Вот она, родима Мыла, — показал на дома Степан.
— Что-то уж очень ты, Степан, радостный: не иначе как вдовушка тут тебя ждет? — пошутил Андрей.
— А не без того, — сознался Степан.
— И греха не боишься?
— Оно, конешно... грешное и кычкотливое энто дело, но по серчу, — неожиданно заключил Степан.
— Как понять «кычкотливое»?
— Кычко — кобель, по-вашему, — рассмеялся Степан.
— Понятно... А где, Степан, мыльские камни?
— Верстах в трех вверху по Мыле. Пока ночевать будем, ты сходи туды, а то завтрева мы минуем их, трахт-от, вишь, на увалы поперек реки уходит.
...Мыльскими камнями оказались распиленные рекой отроги Тимана, сложенные из разноцветных известняков и глин. Судя по карте академика Чернышева, Мыльская