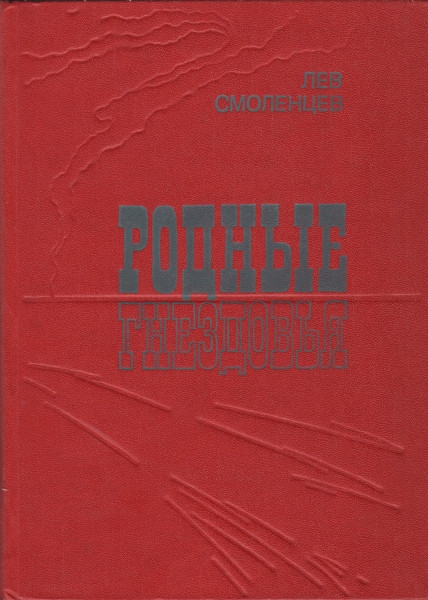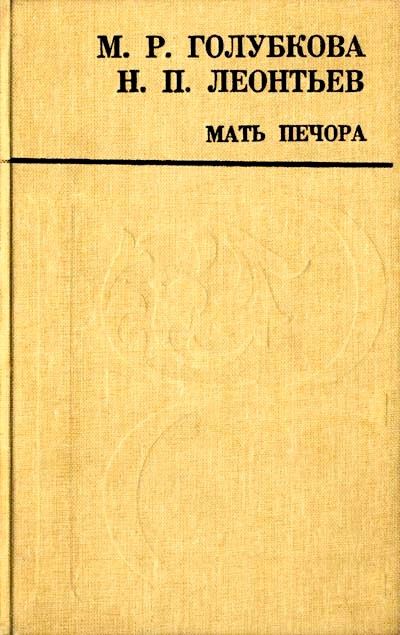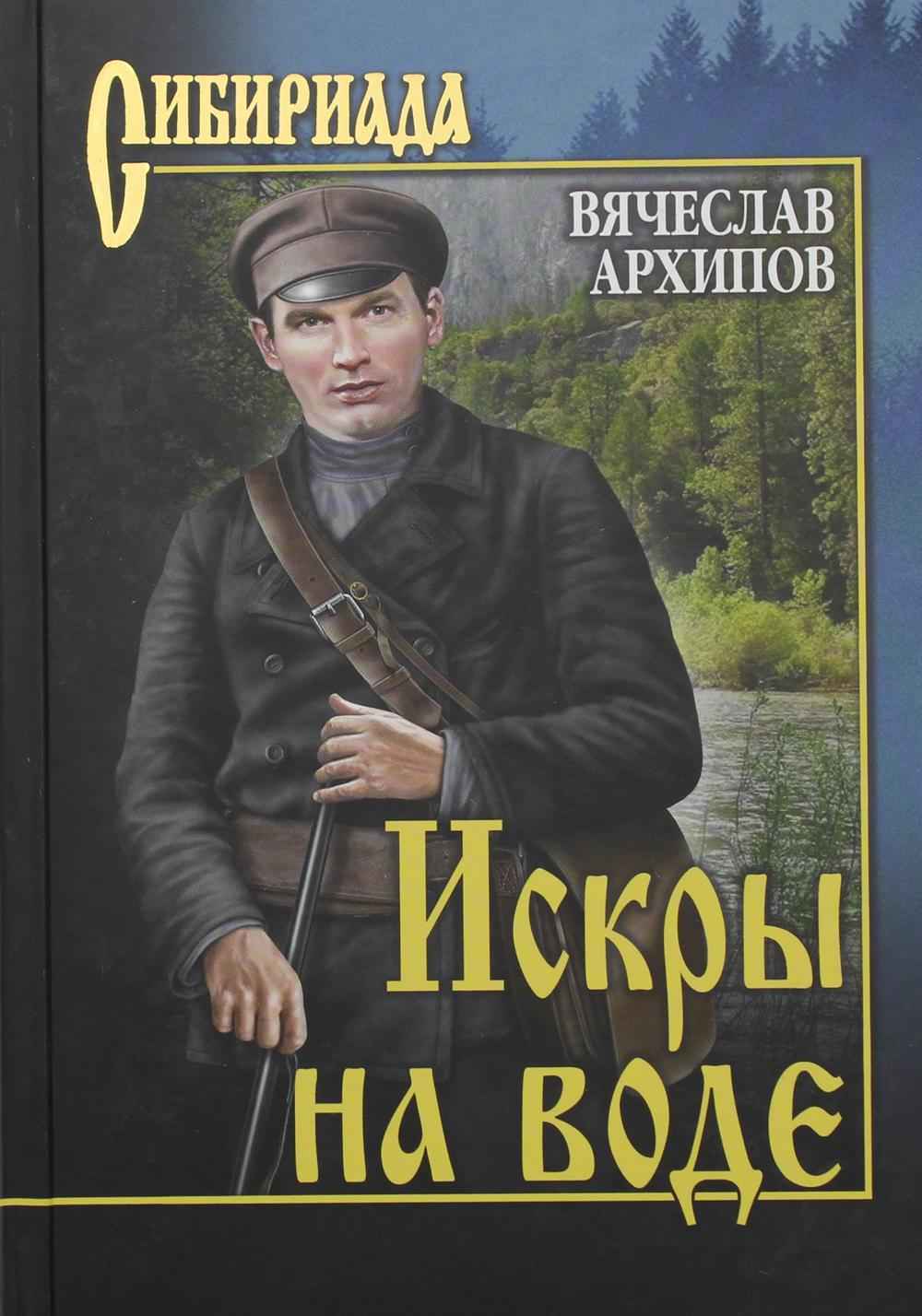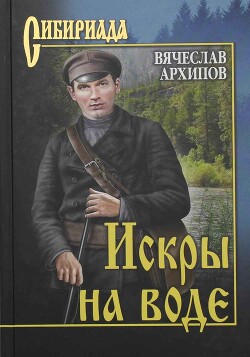гряда тянулась с юга на север параллельно Тиману, и речка Мыла, родившись неподалеку от Ямозера, плескавшегося в огромной чаше на водоразделе между Мезенью и Печорой, мирно синела вдоль западного склона гряды. Однако компас показывал, что в глубоких каньонах течет она с запада на восток, да и солнце, склонившееся к вечеру, все время освещало дно реки. «Видимо, где-то повернув под прямым углом, — думал Журавский о реке, — набросилась она на гряду и разрезала ее пополам. Какая исполинская сила таится в этих светлых, с редкими шапками пены, струях!»
Андрей решил проводить вечернюю короткую зарю и встретить первые утренние лучи на вершине Мыльской гряды, над тем красным обрывом, в грудь которого, клокоча и стеная, бросалась чем-то разъяренная речка. «В таких первозданных местах, если человек не боится их, успокоится и сольется с ними, — думал он, — время теряет свой смысл и значение: у тебя было рождение, но никогда не будет смерти. Вернее, она будет, но это настолько тебе безразлично, что ты не думаешь об этом...»
— Я пришел к тебе, Тиман! — крикнул Журавский.
Об-м-а-н, об-м-а-н, — раскатилось в каньонах.
— Навсегда! — кричал Андрей. — Навсегда!
Д-а-а, — радовались утесы.
* * *
Через два дня, преодолев пятьдесят верст, Степко с Андреем были в Савине, которое и местом и домами выглядело веселей Мылы; в распадке меж двух звонких речушек, на ровной, пронизанной солнцем поляне-луговине, стояло четыре добротных высоких дома, обнесенных прочной жердевой изгородью.
В Савине Журавский наткнулся на такую неожиданность, которой потом долго потешал своих друзей и знакомых.
Основатель рода Бобрецовых дед Савелий, заметив, что гость не притрагивается к рыбе, источающей давно привычный для них, а потому незаметный, крепкий, отпугивающий запашок — больше по случаю поста на столе ничего не было, — приказал жене Степана, своей невестке, нести на стол сметану и масло.
— Штой-то ты, дедко Сава, в пост-от надумал? — изумилась она.
— Кому говорено! — поднял на нее седую голову старейшина.
Когда на столе были выставлены большие глиняные плошки с маслом и сметаной и рядом с ними выложена груда расписных деревянных ложек, Андрей решился на отчаянный шаг: достал из ранца литровую флягу со спиртом. Дед, сразу поняв суть, крякнул как-то и осудительно и довольно.
— Ну, что? — держал на весу флягу Андрей. — Не ради греха, а для здоровья...
Весь многочисленный род, собравшийся сейчас за огромным столом, вопросительно смотрел на столетнего деда Саву. Невестка на правах хозяйки, долженствующей блюсти канон веры, скобкой скривила губы и отвернулась.
— Выставляй, Степко, с посудника чашки! — озорно тряхнул дед сивой бородой. — Грех не в уста, а грех из уст, — тут же подкрепил он свою решительность. — Всем плесни малость! — видя задержавшуюся над чашками женщин руку Андрея, твердо скомандовал дед. — Соку брусничного подымите-ка с погребу.
Но это было не все, чем удивил дед Савелий Журавского: когда после второго захода фляжка пусто звякнула, дед крикнул внуку:
— Оська! Подай с полатчев балалайкю.
Поданную взрослым внуком балалайку дед подхватил легко, привычно.
Балалаича трень-брень:
как прошел сегодня день? —
пропел дед чистым молодым голосом, склонился заросшим ухом к балалайке, озорно подмигнул и:
Было Оське робить лихо —
просидел в кустах весь день!
— И-и-их! — рассыпались смехом за столом, глядя на покрасневшего здоровенного Оську. Когда веселье смолкло, дед обвел всех серьезным вопрошающим взглядом, призывая к порядку и советуясь: какую заведем? Названия песни никто не произнес, однако дед удовлетворенно хмыкнул, склонил голову и медленно начал:
То не пыль во поле распыляется...
Песня, подхваченная всеми удивительно плавно и слаженно, наполнила комнату, полилась из распахнутых окон в речную долину.
Не туман с моря подымается, —
Еруслан-город разгорается...
Спели три душевные, раздольные, родные песни-сказания. Все встали и хотели было разойтись по домам, но тут дед Сава заметил сморенного дорогой и спиртом Степана, спавшего со сложенными по-бабьи руками на животе.
— Погодь-ка, — остановил всех дед. — Чой-то он спит и бородой потряхивает, коды все общу песнь вели. Гость-от, вишь, как соколик... — Дед тихонько подошел к сыну и участливо пропел под балалайку:
Невестки — ой, внучата — ой,
У нас Степко беременной:
Бородой своей трясет,
К Николе сына принесет!
Хохот, визг, стон сотрясли стены дома...
Журавский, собираясь ехать в Печорский край, ожидал увидеть раскольничьи скиты, дикость; услышать гнусавое пенье псалмов, но только не то, что он увидел и услышал и здесь, и в Усть-Цильме.
...В Савине у деда Савелия Андрей прожил две недели: решил собрать гербарий луговых трав и коллекцию сопутствующих им насекомых. Целыми днями носился он с сачком по окрестным лугам и полянам, лазил по щельям речки Валсы, впадающей в Мылу напротив дедовой избы. Мудрый дед использовал приезд дальнего гостя по-своему.
— Слыш-ко, паря, — заговорщицки склонился дед к Андрею, когда сидели они вдвоем на крыльце, — ты шибче вороти нос от кислой рыбы, а я буду шуметь на Степкову грешницу: неси сливок, масло! Сморишь гостя — негоже так-то!
— Да не умру я, дед Сава.
— Ты-то жив будешь, — согласился старик. — А остальным-то каково махать горбушей день-деньской с рыбы-то? Выручи, паря, оно и тебе не без пользы, — упрашивал дед.
— Почему, дед Сава, ваша рыба так... остро пахнет?
— Не хошь сказать вонько, — подсказал Андрею дед. — Соли мало допреж было, да и счас не вволю, вот и квасим рыбу-то. Но нам она, така-то, куды скусней свежей, а вас, прибыльных, отпугиват, штоб не отравились.
«Прав ведь дед, — подумалось Журавскому. — В такой рыбе не исключен яд, очень опасный для непривычного». Он попросил деда рассказать ему о своем хозяйствовании.
— Хозяйство вести — не штанами трясти, — весело откликнулся дед. — А рассказать можно, пошто не обсказать. Скота