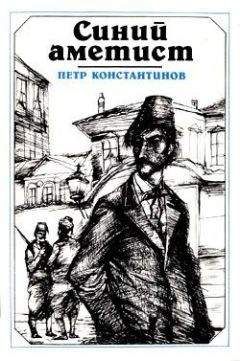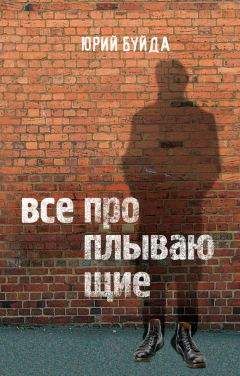— Не кричи! Я не турок…
— Вижу, что не турок… Убирайся!.. Ты тоже не с добром пришел… Уходи!..
— Я ищу Наумовых, — сказал он твердо. — Ты знаешь, где они?
— Здесь никого нет. Разве не видишь? — Голос ее был хриплым и резким, до Бруцева только сейчас дошло, что эта женщина, блуждающая как тень по пустому городу, лишилась рассудка от ужаса.
Он ничего не ответил. Сел на коня и медленно поехал прочь.
Женщина черной тенью осталась стоять на углу дома. Где-то скрипела незапертая дверь — грозно и страшно.
Может, не надо было вообще сюда заезжать. Он не должен думать и переживать. В этом мире нужно только действовать. Это единственное спасение.
Ветер усилился, налетая яростными порывами на пустые улицы города.
Уже в сумерках Бруцев перевалил через хребет Сырнена-горы. Он увидел перед собой Фракию, скованную суровой стужей. В глубине лежала долина Марицы. Над ней нависли темные рваные облака. Бруцев остановил коня и окинул взглядом обширную, уходящую вдаль равнину — туда, где сливались земля и небо.
Потом дернул поводья — резко, словно вдруг вспомнил о чем-то, что надо забыть.
Атанас Аргиряди, одетый в дорожный сюртук, нетерпеливо ходил по комнате. Время от времени останавливался то у одного, то у другого окна.
На черепичных крышах лежал снег, но улицы были сухими, в тени высоких оград каменные плиты отливали синью.
Крыши домов сбегали вниз по холму, следуя направлению улочек. В лучах неяркого зимнего солнца старая черепица казалась свинцово-серой. Вокруг, как всегда в этот час, было спокойно и тихо. А тополя на другом берегу реки казались еще прозрачнее и серебристее, словно были сотканы из дымки, что стелется по весне над водой.
Аргиряди не мог прогнать тягостного чувства, что все это он видит в последний раз.
Он подошел к письменному столу, снова прикинул, все ли дела в полном порядке, потом вынул карманные часы и недовольно покачал головой.
Уже полчаса он ждал Стойо Данова и собирался после разговора с ним сразу же отправиться в путь.
Он хотел поговорить с ним о Павле. Его беспокоила судьба юноши. Он понимал, что события могут развиться быстро, даже молниеносно, и тогда никто ни за кого не будет отвечать. Особенно ему внушало тревогу поведение старого Данова.
Когда арестовали его сына, торговец зерном впал в ярость. Он не хотел ничего слушать. По целым дням бродил по торговым рядам и улочкам Тахтакале, его грубый голос угрожающе гремел под низкими сводами рыночных крыш, казалось, старик готов уничтожить любого, кто встанет у него на пути. Потом он вдруг замкнулся в себе, его молчание было злобным и страшным. Аргиряди не видел его уже несколько дней.
Некоторые считали, что в этом черством человеке заговорило сердце, что он почувствовал боль за сына, но никто ничего не мог утверждать с определенностью.
Имелось и много неясностей в связи с арестом Павла. Поэтому Аргиряди и послал за стариком. Фактически он не видел его со дня смерти Джумалии.
Он снова остановился у окна. Крупные гнедые, покрытые попонами, нетерпеливо переступали на месте, потряхивая гривами.
Аргиряди планировал к вечеру доехать на фаэтоне до Тырново-Сеймена, там переночевать, а утром сесть на поезд до Одрина и Константинополя. В последние две недели из Тырново-Сеймена к Белово шли только поезда с военными материалами.
Заложив руки за спину, наморщив лоб, он опять посмотрел на улицу. В верхнем ее конце показался хаджи Стойо в своей коричневой шубе. Он широко шагал, мрачно глядя перед собой, будто ополчился против всего света.
Стоя неподвижно возле окна, Аргиряди видел, как он вошел во двор, раздраженно спросил что-то у Никиты. Потом услышал, как, по старой привычке, затопал ногами, словно стряхивая снег, по каменным плитам нижнего входа, и, наконец, лестница из орехового дерева заскрипела под его шагами.
Только тогда Аргиряди подошел к двери и открыл ее, поджидая гостя. Хаджи Стойо нерешительно помялся, прежде чем войти, будто обдумывая, как ему держаться.
— Входи, хаджи, — пригласил Аргиряди, — я уезжаю и потому так спешно позвал тебя.
Торговец зерном вытер лоб, взглянул на Аргиряди и направился к своему обычному месту на диване.
— Ты сейчас уезжаешь? — спросил он, пытаясь догадаться, почему его позвали.
— Да, прямо сейчас, — ответил Аргиряди. Он вынул серебряную табакерку и открыл ее перед гостем.
Хаджи Стойо отрицательно качнул головой.
— Я позвал тебя, главным образом, из-за Павла, — начал без обиняков Аргиряди, усаживаясь за стол!
Хаджи Стойо поднял взгляд, его голубые глаза уставились на Аргиряди. Лицо вытянулось, в уголках рта появились горькие складки.
Аргиряди, не обращая внимания на выражение лица хаджи Стойо, продолжал:
— Да, именно из-за Павла… Я откладывал этот разговор, надеясь, что все само утрясется, но до сих пор нет никаких сдвигов. С тобой я не хотел говорить по многим причинам — каким, ты не поймешь, даже если я попытаюсь тебе объяснить… Но поговорить все же придется…
— О чем? — испытующе глядя на хозяина дома, спросил хаджи Стойо.
Аргиряди слегка побледнел.
— О твоем сыне, — ответил он спокойно.
Хаджи Стойо пожал плечами.
— А какое ты имеешь отношение к моему сыну? Мы с тобой, Атанас, продаем и покупаем зерно, ткани, галуны, воск…
— Хаджи, — прервал его Аргиряди, голос его слегка дрожал, — вот уже две недели ты ходишь по торговым рядам, ругая своего сына, ругая Джумалию. Так до сих пор никто еще не поступал — ни турки, ни христиане…
— А я буду, — медленно поднялся с места хаджи Стойо. Подойдя к письменному столу Аргиряди, продолжал: — Да! Я буду так делать, пока в торговых складах прячут оружие, пока во главе гильдии у нас стоят бунтовщики, пока существуют такие, как ты, кто на все закрывает глаза. Понятно? Я буду так поступать! — И, пророчески воздев руку, грозно произнес: — Весь смут от этого…
Аргиряди смотрел на опухшие веки хаджи Стойо, на его упрямые голубые глаза, и ему казалось, что жизнь хаджи прошла напрасно, словно в какой-то пустоте. Покачав головой, он медленно произнес:
— Весь смут от другого, хаджи… — Помолчав, добавил: — Оставим это… Сейчас речь о Павле, о нем я хочу сказать тебе пару слов…
Хаджи Стойо угрюмо проговорил:
— Слушай, Атанас… На этом свете каждый сам заботится о себе…
— Хаджи, — Аргиряди положил руки на стол, — ты не отдаешь себе отчета в своих словах и поступках. Но это твое дело. Я знаю турок не только по мютесарифству. Опомнись, пока не поздно. Спасай Павла как можно скорей, ведь от совести своей не убежишь…
— От совести? — хмуро глянул на него хаджи Стойо. — О какой совести ты мне говоришь? Это у меня нет совести? И то по отношению к кому — к собственному сыну, которому я дал все, что необходимо человеку! Имущество, имя, образование. И для чего все это? Чтобы он шлялся с утра до вечера, болтая глупости, якшался со всеми пловдивскими бездельниками. Чего он еще хочет от жизни? Сейчас такое время, что грамм зерна обходится в грамм золота. А он прячет бунтовщиков, позорит мое имя, все, что я собирал с таким трудом и берег, как зеницу ока, он готов пустить по ветру… Тьфу!.. А ты о совести мне будешь говорить…
И хаджи Стойо презрительно повернулся спиной к Аргиряди.
В комнате воцарилась тишина. Слышалось лишь сиплое дыхание хаджи Стойо. Постояв так несколько секунд, он вернулся и снова сел на диван.
— На этом свете никто ни к кому не должен проявлять милосердия… Никто… Потому что милосердие несет гибель… — И рука его тяжело опустилась на колено.
Аргиряди немного помолчал. Почувствовал, как ладоням стало жарко на суконной обивке, и сжал их в кулак. Потом встал.
— Хаджи, — сказал он, — в жизни ничего не воротишь назад, то, что потеряно, потеряно навсегда. Опомнись! Иди к правителю! Открой свой кошелек и поскорей освободи Павла из Ташкапу! Тучи, которые нависли над нами, несут бурю, медлить нельзя, хаджи…
Хаджи Стойо глухо засмеялся. В этом смехе было что-то жестокое. Встав с дивана, он подошел к столу.
— Аргиряди, — сощурил глаза хаджи Стойо. Голос его неожиданно смягчился. — Деньги вкладывают в то, из чего выйдет толк… Мой сын, — произнес он с болью, — никогда не станет человеком… Из него ничего не выйдет… Он будет лишь моим стыдом и позором… Пятном на моем имени… — Последние слова он проговорил почти шепотом. Пошел к двери, на пороге остановился. — Поэтому не учи меня, как я должен поступать… Мне это ни к чему… Понял? — крикнул он и с силой захлопнул за собой дверь.
Аргиряди смотрел на дверь, пока шаги хаджи Стойо не затихли внизу. И тогда впервые воспринял одиночество не как страдание, а как благо, как спасение.
Спустя полчаса Аргиряди, одетый в зимнюю шубу, поцеловал возле ворот дочь и сел в фаэтон.