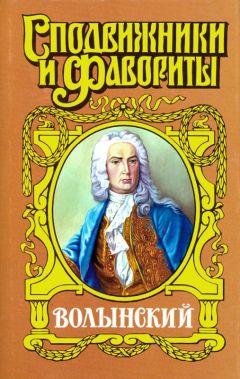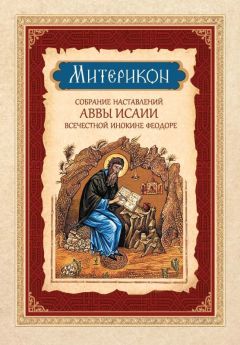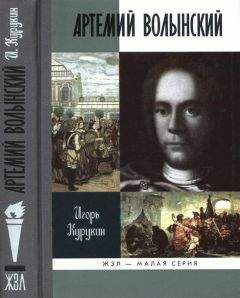Но они приехали в свой московский дом лишь накануне торжества, и пришлось Анне вместе с другими идти в Успенский собор только к самому началу. Она так и не успела перекинуться хоть парой слов с Екатериной, взглянуть на Петра и сердито торопила своих сестёр.
Распоряжался всей церемонией коронации Пётр Андреевич Толстой: всё время персидского похода провёл он в обозе Екатерины, и она обнаружила в нём не только умного и сообразительного дипломата, но и замечательного рассказчика, интересного собеседника и тонкого льстеца.
В Успенском соборе было не протолкнуться. Разряженная знать теснилась во всех углах, стараясь выделиться в первые ряды. Анну с сёстрами провели прямо к амвону, где должна была совершаться церемония возложения короны на голову лифляндской крестьянки...
Парадные кареты, блиставшие золотом и серебром, гербами и ливрейными гайдуками[34], останавливались далеко от собора, и сановники, иностранные послы, дипломаты и родовитые бояре степенно и важно проходили к высокому крыльцу Успенского собора, чтобы подняться по его ступеням, не уронив своего достоинства и чести. По сторонам крыльца толпился народ, тоже нарядный и весёлый по случаю торжества.
Подкатила царская карета, белые лошади — шестёрка, запряжённая цугом — остановились как вкопанные. Из дверец кареты показался Пётр. Был ещё март, снег лежал сугробами в отдалённых уголках Кремля, но тут, перед собором, не было ни снежинки, а с сосулек, окаймлявших собор, словно колокольчики, медленно капали чистые и звонкие капли.
Пётр не был одет в шубу — на нём был только кафтан ярко-голубого цвета, весь расшитый серебряными узорами, ноги в красных шёлковых чулках всунуты в красивые башмаки с бриллиантовыми застёжками, а на голове красовалась парадная шляпа с развевающимся белым пушистым пером.
Из другой кареты выплыла Екатерина в горностаевой мантии. Её подхватил Пётр Андреевич Толстой, а шлейф платья бережно приподняли пять статс-дам. Горностаевая мантия волочилась по чистому двору перед крыльцом собора, четыре сановника несли её концы.
Это было красочное зрелище — блестящие мундиры, бриллианты, шляпы с перьями, разом слетевшие с голов, громадные пудреные парики, склонившиеся перед царицей.
Нигде не споткнулась Екатерина — за этим особенно следил весь собравшийся народ, радостными криками приветствовавший Екатерину. Загремели залпы пушек, взвилась к весеннему мартовскому небу музыка. Екатерина неторопливо поплыла к крыльцу, медленно и осторожно пошла по ступеням, застланным красным персидским ковром.
Церемония была долгая и утомительная: благодарственный молебен служили самые высшие церковные иерархи, ангельскими голосами воздавал хвалу Богу хор, огоньки тысяч свечей отражались в золоте окладов икон, и грустными глазами глядели на всё Богородица и сын её — Иисус Христос.
Пётр никому не дозволил возложить на голову жены императорскую корону стоимостью в полтора миллиона рублей, он сам сделал это, перекрестил новоиспечённую императрицу и поцеловал её. Затем к руке императрицы начали подходить самые знатные и родовитые.
Анна с сёстрами в числе первых подвинулась к Екатерине.
— Здравствуй на множество лет, матушка-тётушка, — успела она шепнуть Екатерине до того, как припала к её пухлой руке, унизанной сверкающими перстнями.
Екатерина улыбнулась Анне.
Весь день был посвящён этой длинной и утомительной церемонии. А назавтра начались поздравления, торжества, парадные обеды.
Анна услышала, как статс-секретарь царского кабинета Алексей Васильевич Макаров зачитал на торжественной церемонии первый самостоятельный правительственный акт Екатерины: она пожаловала Петру Андреевичу Толстому графское достоинство...
Празднества продолжались почти месяц. Надо было иметь отменное здоровье, чтобы столько есть и пить — для парадных обедов в Москву доставили из Петербурга самую ценную посуду — и смотреть на все фейерверки, что приготовил для супруги Пётр. В небе всё сверкало и искрилось, за столами лилось рекой самое дорогое вино, а на площадях и улицах толпами собирался народ возле жареных быков, бочек с пенными напитками, жбанов с водкой и кадок с брагой. Вся Москва пила и веселилась — супруга царя была помазана в императрицы и теперь наравне с мужем могла участвовать в государственных делах.
В своём специальном манифесте Пётр упорно говорил о правах, которые предоставляются Екатерине независимо от её супружеских уз. Он хвалил её как помощницу во всех его делах, говорил о её участии в военных походах и её значении в государственной жизни страны. Похоже, что Пётр хотел оставить всё своё наследство этой женщине, столько лет разделявшей все его трудности...
К концу церемониальных торжеств Анна устала от парадных обедов, продолжавшихся по пять-шесть часов, от бесконечных фейерверков, которыми надлежало восторгаться, потому что устроителем их был сам Пётр, от тяжеленной парадной робы, от массивных собольих шуб и шапок, от шума и толкотни, от напряжения, заставлявшего взвешивать каждое слово, сказанное царю и царице, от мелькания и блеска золотых камзолов и мундиров, от бьющих в глаза бриллиантов. Ей уже хотелось в свою тихую Митаву — увидеть розово-белое лицо Бирона, сияющие личики детей. Но она сдерживала себя и продолжала оставаться такой же бодрой, какой была в самом начале.
Сёстры давно уехали в Измайлово, расхворавшись на торжествах, она тоже мечтала хоть часок побыть в тишине и спокойствии, но она наряжалась и наряжалась, стойко улыбалась всем шуткам и остротам придворных, мило говорила комплименты Екатерине.
За парадным столом около императрицы заметила Анна пышущее свежестью лицо её камергера — Билима Монса, вспомнила старую историю любви Петра к молоденькой Анне Моне, которую прочил он себе в жёны, и подивилась иронии судьбы. Анна изменила Петру, как же попал в камергеры к царице её братец: сам ли пробился, или Пётр приставил его к жене, помня о ненаглядной Анхен?
Не раз подмечала Анна, как ближе придвигала свой кубок Екатерина, когда из-за её плеча высовывалась изящная рука Видима и словно бы нечаянно касалась нежной кожи.
И вдруг словно озарение коснулось её: да ведь не зря же заведует Моне всем вотчинным хозяйством императрицы, занимает такую важную при её дворе должность! И переводила взгляд на Петра — он сильно сдал за время торжеств, лицо его почернело и всё больше дёргалось, седые виски обозначались, когда он стаскивал парик в духоте и шуме застолья, срывался на крик его голос, севший за дни бесконечного пития.
«Постарел батюшка-дядюшка», — с сожалением думала Анна. Сравнивала их — старого мужа-императора, давно изнемогавшего от болезней, и молодого фаворита. Пётр держался изо всех сил, а за стулом императрицы стоял юный камергер, белокурый и кудрявый, с большими голубыми глазами, одетый по самой последней моде. Она всё поняла, Анна, и чувство обиды за батюшку-дядюшку поднялось в ней.
«Зла природа-матушка», — снова думала она. Конечно, старый муж — а Пётр был на двенадцать лет старше Екатерины — давно привычен, а молодые так и вьются возле приветливой и ответной на ласку царицы. И не только тело Екатерины сохранило ещё свежесть и гибкость — в её руке были и щедрые дары, и деньги, и власть, почёт, роскошь.
Анна смотрела на других людей из окружения Петра — каждого понимала, за каждым видела и злые сплетни, и наветы, потому что прошла эту школу, когда собственный дядя Василий Фёдорович Салтыков восстанавливал против неё, Анны, её родную мать...
Сразу после праздников Пётр решил ехать на угодские зароды Меллеров — там вдруг нашли минеральную воду, которая хорошо действовала на желудок, почки и сердце. Он пригласил Анну часть дороги — её до Митавы, его до заводов — проехать вместе. И в его поместительной карете, где теперь всё было сделано для удобства и покоя, она поняла, насколько болен Пётр. Большую часть времени он лежал, прижав ноги к левому боку, где язвила его болезнь, или сидел возле жаровни, протягивая к ней исхудалые руки.
«Только бы жив был дядюшка, — со страхом думала Анна, наблюдая за его трясущейся головой, — только бы не умер. А умрёт — кому оставит он своё дело, своё наследство?»
Ещё в 1722 году Пётр выпустил особый указ, по которому нарушался старый порядок наследования престола. Раньше испокон веков наследовал престол старший из сыновей монарха. У Петра не было сына: Алексея он замучил пытками, младшенький Пётр умер в четырёхлетнем возрасте, а подраставший сын Алексея и Шарлотты, принцессы Вольфенбютельской, не вызывал в нём ни нежности, ни внимания. Да и отца этот ребёнок может не забыть...
А дочери — Пётр до сих пор не признавал их наследницами своей империи — девки, что с них взять, хоть и знал, что обе — и Анна Петровна, и младшая, Елизавета Петровна, — отличаются и умом, и рассудительностью. Но на плечи им не положишь такую ношу, как Российское государство. Вот и оставалось доверять только сподвижникам да жене-помощнице...