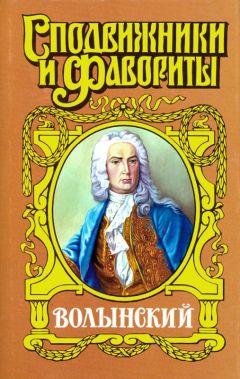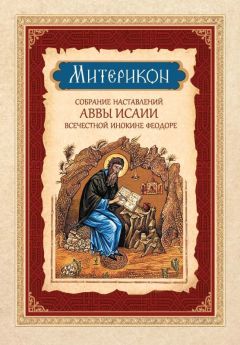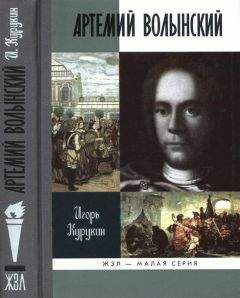Избиение царём губернатора дало пищу многочисленным сплетникам и сплетницам. За спиной Волынских то и дело слышались насмешки, опального губернатора не стыдились не слушаться подчинённые. И хотя до опалы было далеко — царь вернул своё доброе отношение к Артемию, — но жилось Волынским в Астрахани тяжело и скучно: все их нововведения встречались в штыки...
Только и оставалось Волынским сообщаться письмами с друзьями, ждать весточек от цесаревен Анны и Елизаветы. Те писали часто, извещали о всех столичных новостях и присылали приветы и подарки.
Часто писал Артемию и его друг Вилим Моне, вошедший при дворе в большую силу. Он стал камергером у царицы Екатерины, и она жаловала своего красивого и молодого камергера деньгами, подарками и лаской.
Вот ему-то первому и написал Артемий о прибавлении в своём семействе. «Анета моя родила мне тряпицу, которой дали имя Анна. И девка изрядная, если будет жива, чаю, карлица будет, чему бы я и рад был, понеже когда будет не глупа, то б уповал, что будет вместо Авдотьюшки в милости, и я бы больше не желал, чтоб она совсем была такова, как она, что бы себе за особливое счастье почитал — мне же бы без убытку...» Авдотьюшка была любимой карлицей Екатерины Алексеевны — её холили и лелеяли, задаривали подарками и деньгами. И знать стремилась посвятить своих детей в карлицы — немногим выпадало такое счастье.
Вилиму же сетовал Волынский, что до сих пор нет согласия цесаревны Анны Петровны на восприемницу Аннушки, хотя он просил об этом матушку-царицу и Анну Петровну.
Моне тут же откликнулся на письмо Артемия: Анна Петровна давно дала согласие быть крестной матерью новорождённой Аннушки Волынской, да всё недосуг было ей написать об этом. Анна Петровна и сама вскоре сочинила Артемию, что будет рада стать восприемницей ребёнка Волынских. «Бабёнку и девчонку» Артемия особенно баловала Елизавета Петровна: она часто присылала им письма, подарки, особенно самые модные ленты.
Девочка росла, становилась похожа на отца и ничем не напоминала карлиц, в которые прочил её в шутку отец. Она вытягивалась и вытягивалась и была уже несколько выше роста сверстниц, когда у Волынских снова появилась дочь — теперь они назвали её Марией.
Пётр Андреевич Толстой всё-таки сделал своё чёрное дело. Он нередко отзывался о Волынском как о человеке, долженствующем управлять всеми делами на Кавказе. Но постепенно, реплика за репликой, словечко за словечком вставлял Пётр Андреевич своё в отзывы о Волынском — испугался Толстой Артемия и оттеснения его, Толстого, от милости царя новым молодым работником. И тогда, при пьяной драке, до прихода Артемия, подпустил Толстой пару слов, потому и взъярился Пётр на губернатора.
Но Волынский не знал этого, и слава богу! Но Пётр Андреевич действовал медленно и верно — пару словец бросит и заставит задуматься. Хотелось ему своего человека посадить на Северном Кавказе — уж больно сытное место. И напоминал Петру, что Волынский подтопил продовольствие — судов настроил некрепких да из сырого дерева. И хоть помнил Пётр, что шторм разыгрался, суда потрепало и течь появилась из-за погоды, но Волынский далеко, а Пётр Андреевич близко. Кого нет, тот в судах, то есть в пересудах. А тут ещё и доносы пошли от обиженных Волынским чиновников: распекал их Артемий за неприлежание, а они, зная царскую опалу, не опасались писать на него доносы. На следующий же год после удачной экспедиции Каспийской флотилии Пётр отобрал у Волынского «полную мочь», оставил только дела по губернии, занятия административные, отнял и всю службу по переписке с грузинскими и армянскими владетелями.
Горьким и тяжёлым показалось Волынскому такое небрежение, думал уже вообще проситься в отставку, да жена успокаивала: всё рассудит Бог по справедливости, всё станет по-доброму, и царь переменит своё к нему отношение. Но царь не переменял. Хорошо делал дело Пётр Андреевич Толстой: никто никогда не дознался, что он был самый страшный недруг Волынского и ставил ему везде палки в колеса.
Впервые после смерти матери, царицы Прасковьи, приехала Анна в Измайлово. Здесь всё было так же, как и при матушке, только распоряжалась всем старшая сестра Катерина.
Она встретила Анну слезами: её герцог отрешён от мекленбургского престола, и где он теперь, она не знает — скитается по дворам Европы, жалуясь на свою судьбу, неблагодарных подданных и заговоры, которые мерещатся ему на каждом шагу. Мать всё время призывала его приехать в Россию, чтобы помог ему Пётр, но герцог, своевольный и упрямый, не хотел быть здесь.
Но слёзы Катерины перемежались смехом — она с удовольствием глядела на шутов и шутих, хохотала над их грубыми шутками и приглашала Анну повеселиться с ней.
Анна смотрела на всё это уже не с прежним восторгом — за годы житья в Митаве она попривыкла к другой обстановке, а Бирон и вовсе приучил её к более утончённым удовольствиям.
Всё так же ныла и плакалась младшая сестра — Прасковья, лежала почти без движения на неприбранной постели, заваленной атласными одеялами, попорченными вином и пятнами от грибов, орехов и сладостей. Изредка к ней приходил её тайный муж — хилый и бледный Мамонов, и Анна брезгливо глядела в его водянисто-голубые глаза и на реденькие волосы на макушке, которые он прикрывал огромнейшим париком. Но в духоте измайловского дома он не выдерживал и снимал его.
Анна попросила Катерину распорядиться, чтобы ей взнуздали ту же лошадь, на которой она каталась ещё в 1709 году, когда последний раз была на охоте до отъезда в Петербург. Катерина расхохоталась: давно уже сведена была эта лошадь на живодёрню и из её шкуры наделаны башмаки и ботфорты, но приказала привести Анне самую лучшую лошадь из своих просторных конюшен. Неизменный Юшков низко склонился перед Анной, держа в поводу гнедого большого коня, на широкой спине которого Анна разместилась удобно и уютно.
Она отказалась от сопровождающих и ускакала в заснеженные, чуть уже тронутые оттепелью поля. Слежавшийся снег комками отскакивал от копыт коня, бил в спину, но она чувствовала огромную радость от этой скачки в одиночестве по полям и лугам, прикрытым снежной пеленой, а потом и между голыми деревьями, почерневшие стволы которых уже готовились к весне.
Анна скакала и скакала до изнеможения, разыскивая ту полянку, на которой стоял тогда под заснеженной елью Артемий с порыжелой шапкой в руке. Как давно это было, сколько воды утекло с тех пор, а она всё ещё помнила его свежее румяное лицо, робкий и пылающий взгляд, густые пушистые волосы.
Она долго искала эту полянку, но так и не нашла её. Под каждой елью чудился ей Артемий, но лицо его словно бы заслонялось бело-розовым холёным лицом Эрнста Бирона, и она понимала, что прошлое ушло, как ушла куда-то и эта заветная снежная полянка...
Анна приехала в Москву, чтобы участвовать в торжественной коронации Екатерины, и не могла устоять, чтобы не побывать в Измайлове. Но всё теперь казалось ей тут другим, каким-то мелким и жалким, низкие потолки Измайловского дворца стали ещё ниже, а стены будто сдавливали воздух, и всегда в них стояла духота и жара. Печи топились беспрерывно, и носился по покоям запах сосновой смолы и хвои, а красные, распаренные, словно в бане, лица будто заволакивались дымкой прошлого.
Нет, здесь она никогда не была счастлива, в памяти всё ещё сохранялись укоризненные слова и попрёки матери, её щипки и пощёчины. Она не находила в своём детстве радостных моментов, и вспоминались ей другие времена, и другие дворцы, и другие лица...
Странно, что она так серьёзно относилась к проклятию матери. Она показала письмо, отпускавшее все её грехи, но Катерина только расхохоталась:
— Да она каждый день нас проклинала, бранилась и попрекала — так что ж, унывать?
Так же легко относилась к этому и Прасковья.
Вместе с Анной собрались на церемонию в Москву и обе сестры. Хоть и обезножела Прасковья, хоть и раздалась выше меры Катерина, а пропустить такое торжество было не для них.
Собирались они долго, рассматривали и примеряли наряды и шубы, перетряхивали порченные молью собольи шапки и разноцветные, тканные ещё при бабушках и прабабушках платки, разнашивали новые ненадёванные башмаки и меховые сапожки и выехали только за день до начала церемонии.
Анна сердилась на сестёр, ей хотелось видеть, как слетается и растекается по старой столице вся петербургская знать, хотелось потолкаться среди разношёрстной и говорливой толпы, постоять возле локтя батюшки-дядюшки, всецело занятого церемонией, прижаться к тёплому боку Екатерины и поплакаться на крепком плече матушки-тётушки.
Но они приехали в свой московский дом лишь накануне торжества, и пришлось Анне вместе с другими идти в Успенский собор только к самому началу. Она так и не успела перекинуться хоть парой слов с Екатериной, взглянуть на Петра и сердито торопила своих сестёр.