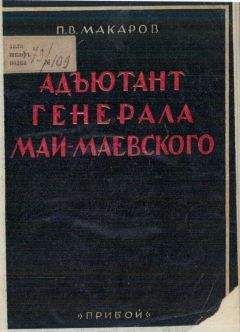Ознакомительная версия.
И вот барон бормочет: а такие, мил-друг, сокровища! Все такие!.. Самолучшие… И камни дорогие, насквозь прозрачные, что играют по-сумасшедшему, и камни цветные, непрозрачные, с разводами да узорами, что высоко в горах находят, из них китайцы да маньчжурцы поделки драгоценные мастерят, статуи да колечки… и золото, сплошь золото, много золота, да такого, что у самого китайского императора слюна бы по подбородку от зависти потекла… древнее золото, вырытое из курганов… похищенное из дворцов… и китайское золото, и монгольское, да и русское тоже имеется… Царское… из Алмазных подвалов Царских дворцов в Москве и в Петербурге… я так богат, капитан, кричит шепотом наш Унгерн, так богат, што, ежели захочу – ежели в Америку какую с тем золотишком рвану на корабле – припеваючи всю жизню жить буду!.. И потомки мои припеваючи жить будут!.. И внуки внуков моих… А вот не бегу я с тем золотом за океан, не бегу, капитан, чуешь!.. А почему ж, пытает Лаврецкий, угли в костре веточкой ворошит. Почему ж не бежишь, генерал?.. И смотрит ему глаза в глаза – так совы глядят в темноту. И барон медленно, чеканно так – капитану: не бегу, потому как – за великую Азию хочу помереть. Вместе со всем азиатским золотом.
Лаврецкий как вскинулся: за великую Россию, может быть, генерал?.. Вы хотели сказать – за великую Россию, наверное!.. Нет, помотал головой Унгерн, нет. За Азию. Россия – часть великой Азии. Россия – азиятская земля, это ж понятно всем давно. А за великую, за царственную Азию и помереть не жалко. И пусть все золото Азии, в случае чего, ежели суждено мне тут косточки сложить, уйдет вместе со мной. Надо будет – в любой реке, в Селенге, в Толе, в Орхоне утоплю. На дно со мной целый мир уйдет. Никому не достанется.
Так и припечатал. Так и отрубил! Глядит белыми своими глазищами в глаза капитану! Да и капитан не лыком шит, очей не опустил. Эка, улыбнулся, эка хватили вы, ваше-ство! Умрете вы или не умрете, а золото все одно опасно за собою возить. Барон окрысился: а где бы вы хотели, штоб я оставил его?! Зарыл?! Закопал?! Поручил другу… верному человеку?! Все друзья – враги. Все верные – Иуды!
Как кинул: «Все верные – Иуды», – так капитан вздрогнул весь, весь белый стал, ажник шея побелела, потом – щеками потемнел… Смолчал…
Я стою, как на часах. Замерз, ажник кишки промерзли. Конь, вот дивно, стоит как вкопанный, тож не шелохнется. Как, думаю, с места-то сдвинуться?.. услышат нас, головы мне не сносить… Генерал поймет, что подслушали его, саблю выхватит, башка так и покатится в снег, в сухую полынь… Лаврецкий выручил. Поднялся, потягивается, разминается. «Костер, – бает, – догорел уж почти, генерал, пора спать, вечернюю зорю уж давно сыграли».
Встали, пошли они, негромко переговариваются, я уж никаво не слышу, дрожу весь под гимнастеркой, снег на папаху нападал, я сам навроде снежной горы стал, коня осторожно в поводу повел, конь, умница, не заржал не разу, даже копытом траву не поскреб, так и стоял, будто б из камня высеченный – таких каменных коней я около одного субургана в Урге видал, из белого солнечного камня коники, в солнечный день так сияют-светятся, инда глазам больно…
Сокровища генерала… Нож с тою бабой на лезвии… Та, Катина, пещера…
Люди, исчезнувшие из Дивизии навеки…
Урга, за кою так смертно боролись, – под красными…
Што ж это такое деется?!.. Или и впрямь Азия – черный колодец, и сгинут тут все наши малые жизнешки, бесследно потонут?!..
* * *
Осип увидел ее издали.
Увидел их обоих. Как они скакали на коне к лагерю от горы Богдо-ул, по пологому, уже заснеженному берегу Толы.
Осип сразу узнал ее. «Катеринушка», – прошептал, и губы его враз пересохли. Все его тело мгновенно покрылось испариной, и он понял, как он волновался о ней, как тосковал по ней, как беспокоился за нее, за ее маленькую драгоценную жизнь – в мешанине, в коловороте схваток и разрух.
Конь скакал свежо, резво, и всадница приближалась. Осип рассмотрел – на коне, в седле, впереди Кати, моталась непокрытая русокудрая детская головка. Девочка?.. Мальчик?..
Отчего-то у Фуфачева на миг сжалось сердце, и он подумал с тоскою: ах, да, ведь все может быть, может быть, это ее ребенок. У такой молоденькой?.. ну да, может быть, она родила в четырнадцать, в пятнадцать лет… Это ее ребенок, и она прятала его где-нибудь поблизости от себя, привезла из Петрограда и прятала у какой-нибудь сердобольной китайской старушки в Урге, и оттого, убежав в Ургу от самою же ею придуманной казни, так долго не появлялась в лагере… Она просто была со своим ребенком, вот в чем все дело…
Когда конь подскакал совсем близко, он разглядел, что ребенок-то большенький, смышленый, лет восьми-десяти. Ну чистый ангельчик, и только! Кудряшки на плечи льются, возле щечек играют. Правда, бледненький шибко. Ну, это устал, они ведь от Урги скакали, видать, без отдыха…
Катя тоже увидела Осипа. Натянула поводья. Мальчик чуть не упал вперед, через холку коня. Осип поймал глазами глаза Кати, как ловят лошадь за шею – арканом.
– Фью-у-у-у… Катерина Антоновна-а-а-а… Вы ли это… а?..
– Нет, это не я, – без улыбки сказала Катя. – Это мой призрак. Сними, Осип, с коня Великого Князя. И помоги мне спешиться.
Фуфачев, потеряв дар речи, протянул руки и принял на руки златокудрого ангелочка. Поставил на землю. Пока оборачивался к коню – Катя сама уже спрыгнула на снег, чуть не запутавшись в стремени.
– Вы… совсем к нам, Катерина Антоновна?..
– Совсем. – Губы ее дрожали. Мальчик, запрокинув голову, глядел на нее ясными, светло-серо-зелеными, как просвеченные солнцем водоемы, наплаканными глазами. Веки припухли, искусанные губы запеклись. Из-под расстегнутой бобровой шубки виднелся помятый воротник матроски. – Где Унгерн?
– Барон-то?.. Да там, у себя, в палатке. Если не пошел кондер из котла пробовать, повара кашеварят… Куда вы, Катерина Антоновна… Катя, куда вы!..
Она повернулась. Она уже бежала по мерзлой земле. Сапожки из ателье мадам Чен стучали по насту полулунными подковками. Из командирской юрты вышел высокий, как оглобля, исхудалый человек в потрепанной желтой княжеской курме, с черной тибетской трубкой в руке. Георгиевский крест лунно, потусторонне блеснул на груди, слева, где сердце. Катя как бежала – так и повалилась в ноги этому человеку, и он уставил на нее белые, с красно-фосфорно горящими точками зрачков, волчьи глаза.
– Простите! Простите меня! Прости…
Она заслонила лицо руками. Барон пожарною каланчой стоял перед ней, и его отросший надо лбом светло-русый чуб трепал ветер.
* * *
Два всадника прискакали к нему в Тенпей-бейшин.
Два всадника крепко сидели в седлах. Глядели на огонь.
Костер горел у ног коней.
Два всадника спешились, и звякнули стремена.
Джа-лама сам вышел их встречать. Два всадника прискакали из самой Урги. Он, Джа-лама, уже получил письмо из Улясутая от тамошнего хубилгана Дэлэб-хутухты – и в письме значилось, что новое ургинское красное правительство, свергнувшее косную старую власть старого алкоголика и маразматика Богдо-гэгэна, предлагает ему занять пост полномочного представителя министра Западной Монголии и выделяет его, Джа-ламы, земельные степные владения в самостоятельный хошун. Читая это письмо, он усмехнулся. Заигрывают! Он не дался в руки Унгерну; не дастся в лапы и новой власти. Красные – ядовитый вех, волчья ягода на склонах горы Богдо-ул. Красная ягода: съешь – и смерть тебе… Однако на письмо надо было отвечать, и он ответил. Ответил, может быть, не так вежливо, как полагается воспитанному в Тибете ламе.
Письмо от Дэлэб-хутухты ему привез человек в кожаной куртке, судя по его выговору, тибетец – он не знал его имени. Он уже не первый раз привозил Джа-ламе срочную и важную, а также тайную почту из Урги и из Китая; он был молчалив, как подобало суровому тибетцу, говорил мало, сухо кланялся. Джа-лама приказывал накормить его на кухне поозами – он отказывался, благодарил: «Я ел в пути, готовил себе пищу на костре». Один кожаный рукав его военной куртки, кажется, правый, был весь изодран, будто когтями. Будто он носил на плече охотничьего сокола. Однажды, когда он в очередной раз привез ему письмо от ламы монастыря Гандан-Тэгчинлин, священника Доржи, и почтительно ждал, когда Дамби-джамцан нацарапает на листе бумаги скорейший ответ, ветер отогнул от его шеи, от ключиц воротник его рубахи, и на его шее Джа-лама увидел черный шнурок, а на шнурке – черный железный знак «суувастик». «О, да ты, молодой тибетец, поклонник древних учений, – уважительно подумал он тогда о молчаливом посланнике, – может, даже Посвященный. Поэтому ты так важно молчишь».
Два всадника медленно подошли к нему. Склонились в предписываемых ритуалом поклонах. Выпрямились. Он ощупывал глазами их неподвижные, словно выточенные из темного дерева, узкоглазые лица.
– Нанзад-батор.
– Дугар-бейсэ.
– Добро пожаловать в мою обитель, – наклонил массивную тяжелую бычью голову Джа-лама. Его лоб был обвязан шелковым ярко-желтым платком. По краю платок тоже был вышит маленькими паучками «суувастик». – Вы из Урги?
Ознакомительная версия.