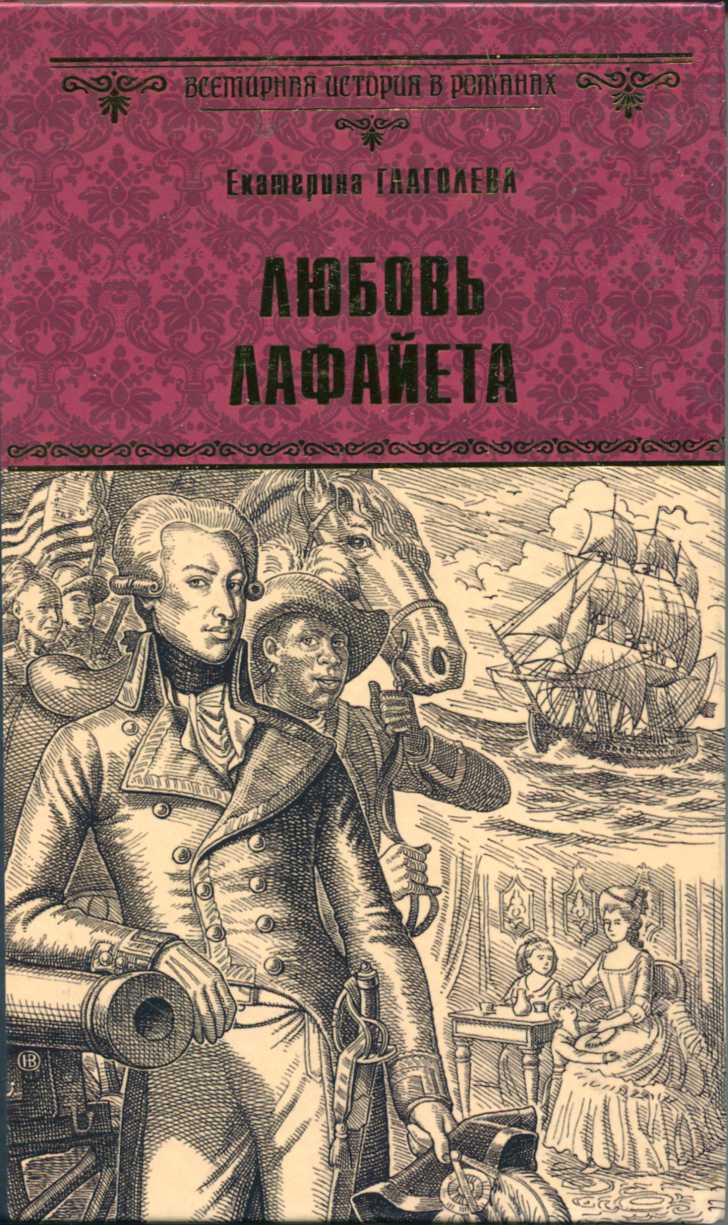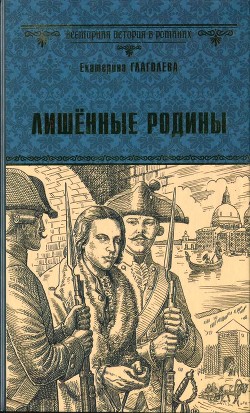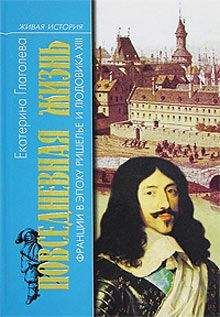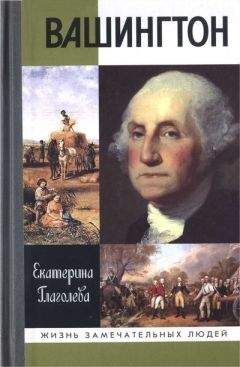самой Ратуши, увенчав её земным шаром, на котором балансировала на одной ножке крылатая и нагая аллегория Мира, трубящая в длинную трубу. Огненные брызги сыпались водопадами с утёсов между фигурами нимф, тритонов, кораблей и военных трофеев. Франция праздновала победу над Англией.
Сегодня не раздавали ни вина, ни хлеба, ни другой провизии, как третьего дня на Зерновом рынке, но люди всё равно не уходили: в толпе было теплее, по углам площади жгли костры, да и шутихи, разрывавшиеся в ледяном декабрьском небе, как будто согревали. Пойти всё равно было некуда: церкви, общественные места и мастерские закрыли, в домах стояла лютая стужа, даже богачи жгли мебель в печках. Правда, король издал ордонанс о налоге на вельмож, купцов и попов, чтобы закупить дров для бедноты. Через десять дней Рождество; король добр, а Господь милостив…
Из-за фейерверка Лафайету пришлось обогнуть Шатле, чтобы выехать к Новому мосту, зато на той стороне он быстро добрался по Королевской набережной на улицу Бурбон.
Дом, куда он перевёз свою семью, было не сравнить с роскошным особняком Ноайлей, больше напоминавшим дворец, однако и он был не лишён очарования. Жильберу с Адриенной и детьми вполне хватало двенадцати комнат на двух этажах, антресолей и чердака, где жили слуги; четыре экипажа, пятнадцать лошадей — зачем же больше?
Овальная гостиная в три французских окна выходила в сад; дневной свет отражался в четырёх зеркалах выше человеческого роста. Сейчас, конечно же, окна были законопачены, чтобы холод не пробрался внутрь, но в зеркалах мерцали огоньки свечей и пламя уютного камина. В этой гостиной маркиз и маркиза принимали своих американских друзей, часто заглядывавших на улицу Бурбон. Адамс с женой, Джефферсон с дочерью, Джей и, разумеется, Франклин приезжали ужинать по понедельникам. Разговор вёлся на английском языке; даже маленькие Анастасия и Жоржик распевали английские песенки, ко всеобщему умилению.
После ужина мужчины поднимались в кабинет. Зеркала над камином и между окнами раздвигали пространство, классически простая мебель из красного дерева, без всякой версальской вычурности, выдавала жилище республиканца. Лафайет заказал внуку Франклина копию Декларации независимости, чтобы повесить её в золочёной рамке над письменным столом и перечитывать в часы уныния для поднятия духа.
Однажды, выбежав из дома с книгой для Джея (ему предстояло посольство в Испанию), Жильбер перехватил обрывок разговора уезжавших гостей. "Француженка души не чает в своём муже! Поразительно!" — сказала миссис Адамс. Жильбер улыбнулся про себя, поняв, что они говорят об Адриенне. Ах, как живучи стереотипы! Хотя, если подумать, миссис Адамс не так уж неправа. Она уже успела повидать версальское общество и сравнить его с американским. Да, в самом деле… Лафайет стал припоминать, какая ещё француженка была бы влюблена в своего мужа, — ему приходили на ум только сёстры Адриенны. Луиза обожает Ноайля, Клотильда всё еще скорбит о своей утрате, Полина в мае вышла замуж за капитана Монтагю и счастлива… И госпожа д’Айен — она ведь тоже любит герцога. А её сестра — Сегюра… Все эти дамы в театрах, на балах и маскарадах, посылавшие ему улыбки и лукавые взгляды, вряд ли вспомнят, когда в последний раз делили своё ложе с мужем. Достоин ли он этой любви?.. С Аглаей он порвал окончательно, а Диана… Нет, ему не в чем себя упрекнуть! Возможно, они с Адриенной действительно сделались настоящими американцами — они верны и честны друг с другом.
Самостоятельная жизнь, однако, требовала немалых денег. Покупка дома с садом обошлась в сто пятьдесят тысяч ливров, еще пятьдесят тысяч ушло на меблировку, столько же — на лошадей и экипажи. Столовое серебро и бельё, дрова и свечи, одежда, ложи в Опере и "Комеди-Франсез", книги для библиотеки, прививки от оспы для детей, жалованье слугам… Весной Лафайет впервые за последние десять лет вернулся в родную Овернь, чтобы представить наконец Адриенну и детей тётушке де Шаваньяк (тётушка дю Мотье его не дождалась), сдержать слово, данное индейцу, и продать несколько имений: нужно ведь было платить и старые долги.
Впрочем, дела его шли не так уж плохо: земли приносили стабильный доход, так что, за вычетом всех издержек, к концу этого года у него ещё оставалось около двадцати тысяч ливров. Тем лучше: значит, все планы в силе, и следующей весной он вновь отправится в Америку.
Жильберу нужно непременно повидать генерала Вашингтона, рассказать ему о месмеризме и воздухоплавании, а главное — о своём новом проекте. Завоевание независимости — лишь первая победа в борьбе за свободу, теперь необходимо сделать следующий шаг — покончить с рабством. Конечно, цепи не перерубить одним ударом, однако нужно с чего-то начинать, и он, Жильбер, подаст пример. Он купит плантацию во Гвиане, из которой наконец-то изгнали англичан, и отпустит невольников на свободу. Они смогут выбирать: уехать или остаться, переменить свою жизнь или работать по-прежнему, но уже как вольные землепашцы, обрабатывая свой участок земли и питаясь от своих трудов, а хозяину, то есть Лафайету, выплачивая только арендную плату. Надсмотрщики будут больше не нужны, с телесными наказаниями он покончит! Конечно, в первое время придётся взять на себя организацию труда и сбыт урожая: глупо ожидать от забитых, неграмотных людей, что они в одночасье превратятся из рабочего скота в фермеров и коммерсантов. Нужно будет самому устроить школу, больницу, платить агроному и управляющему. Но всё это временно, и когда соседи поймут, что арендаторы выгоднее рабов, поступь Свободы будет уже не остановить!
* * *
Путаясь в полах длинной шубы, Кретьен Гильом де Мальзерб шёл через площадь Дофин к Новому мосту, намереваясь с утра пораньше посетить узников Шатле и выслушать их истории: вполне возможно, что среди них есть невинные люди, ведь тайные письма, с помощью которых влиятельные завистники сводят счёты, так никто и не отменил. Почти пятнадцать лет Мальзерб борется с этим произволом, равно как и с прочими злоупотреблениями системы, призванной вершить правосудие, но на самом деле творящей несправедливость. Какие надежды он возлагал на молодого короля — доброго, просвещённого, широких взглядов! Но когда его другу Тюрго пришлось уйти в отставку, Мальзерб поступил так же, сложив с себя обязанности министра двора. Завсегдатаев салона Жюли де Леспинас расстроило это решение; Мальзербу говорили, что они с Тюрго — единственные честные и неподкупные люди во всём правительстве. Возможно, что поступок, казавшийся ему храбрым вызовом системе, на самом деле был трусливым бегством от забот, но время вспять не повернуть. Тюрго два года как в могиле. Зато Мальзерб, не входя в правительство, может теперь говорить королю горькую