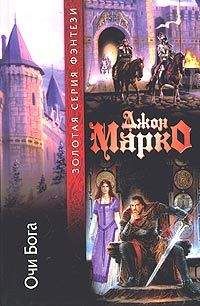— Никак нет, ваша милость. Народишку тут не доводилось бывать. Клети для меди были, да и те впусте стояли. — Щука стоял тихо, понурив голову.
— А ежели воду вычерпать? — поднял на приказчика глаза офицер.
— Эх, ваше благородие, да ее во сто годов не вычерпаешь.
Офицер выпрямился, стал строг:
— Я тогда пруд спущу!
Демидовский приказчик угрюмо откликнулся:
— Пруд-то не шутка спустить, да тогда завод станет и пушки не отлиты останутся. Вот ведь как! Может, на башню подниметесь?
— Нет.
Быстрым шагом Урлих пошел к себе в горницу и потребовал из конторы записи о литье железа.
Шла третья неделя; питербурхский гость никак не мог проверить конторские записи, все было запутано. В отчаянии офицер метался по горнице и не знал, что предпринять.
Утро и обед Урлих проводил с хозяином. Демидов сидел чинно, важно и все жаловался гостю: донимает доносами злой соседишка Татищев. Урлих отмалчивался.
Из головы не выходило: «Потопил народ Демидов, потопил».
За столом и в горнице по-прежнему прислуживала черноглазая служанка. Офицер только сейчас заметил, до чего у девки длинные да пушистые косы. Ресницы у нее густые и черные.
«Хороша девушка», — подумал он; было приятно глядеть в ее глаза; не стесняясь Демидова, офицер любовался холопкой. Хозяин словно и не замечал этого.
Однажды вечером усталый от работы господин Урлих шел по темному коридору; никого из холопов не было в этот поздний час. Только в хозяйской горнице дверь была приоткрыта, и косой солнечный луч падал на каменный пол коридора.
Офицер хотел прикрыть дверь, подошел и стал, как прикованный. В кресле сидел хозяин без парика, отчего он выглядел болезненнее; слуги за возилом не было. Перед хозяином стояла черноглазая служанка и кончиком фартука утирала глаза. По вздрагиванию плеч девушки Урлих догадался: она плачет. Хозяин меж тем протянул сухую руку и пытался ухватить служанку за подбородок.
— Целуй меня, дурочка. Ну!
— Не мо-о-гу-у… — сквозь слезы выдавила девка. — Не мо-гу-у…
— А ты моги, а ты моги! — Голос хозяина был слащав, он вертел острой головкой на длинной шее и мурлыкал.
Офицеру стало не по себе.
«Шелудивый кот», — брезгливо подумал он.
Надо было уйти от этого зрелища: не к лицу офицеру подсматривать, — но внезапная тоска навалилась на сердце и приковала Урлиха к порогу.
Демидов продолжал уговаривать девку:
— Ты поцелуй да уготовь мне постельку.
— Что вы, барин! — простонала девушка. — Не могу! Вы лучше меня потопите, как…
— Помолчи! — стукнул костылем хозяин и заметил приоткрытую дверь.
Офицер нырнул в тень.
— Закрой! — приказал девке Никита, но чернавка выбежала из горницы и прихлопнула дверь. Вслед ей в горнице истошно закричал паралитик:
— Вернись, дура-а!
Служанка темным коридором пробежала в горенку гостя и стала стелить постель. Урлих неслышным шагом вошел к себе. Девушка роняла слезы; плечи ее вздрагивали. Взбивая перину, она вдруг заплакала в голос и пожаловалась:
— Ох, не могу! Ох, не могу…
— Почему «не могу»? Что «не могу»? — спросил офицер.
— Ему подыхать пора, а он… — Она опустила глаза и зашептала: — А ты бойся их, бойся! Они со Щукой в подвалах потопили народ и рубли сами робили. И Бугая пристрелили они. Они и тебя убить могут.
Урлих еще неделю прожил в Невьянске, лазил на башню, подолгу глядел на горы, на бегущие облака, — но тревога его не проходила. Под башней в затопленных тайниках плавали трупы, но как доказать это? Взять с собой черноглазку, но что скажут дворяне да хозяин? Пристыдят: спутался-де офицер с холопкой. Да и будет ли вера холопке? Демидовское слово и слово холопки не в одной цене ходят.
Демидов притомился от чужого взгляда в его поместье, он беспокойно посматривал на офицера и недовольно думал: «Когда провалится к чертям незваный гость?»
Гость между тем собрался в обратный путь. В конторских книгах Урлих заметил фальшь: не вносил Демидов десятину железом государству. Подозрения эти подтверждала и черноглазка.
— Выкупите меня, господин Урлих, у вас холопкой быть приятнее; у Демидова страшно! — просила она.
В последний вечер девушка пришла стелить гостю постель и горько плакала.
— Убьет меня Демид! Ой, убьет! — пожаловалась она.
Он промолчал. Служанка степенно отошла к двери, почтительно поклонилась:
— Прощай, барин…
За дубовой дверью затихли ее шаги; Урлиху стало горько, он повалился лицом в пуховик и терзался всю ночь.
Для отъезда столичного офицера Демидов предоставил свою колымагу, обитую бархатом; два конных пристава охраняли Урлиха. Никита Никитич, важно одетый, сидел в кресле посреди двора, провожал гостя:
— Добрый путь господину офицеру. Кланяйтесь от меня царице-матушке, их неусыпными попечениями держатся наши заводишки.
Демидов посмотрел вслед колымаге и сказал сердито:
— Освободились от соглядатая…
На запрудье, на огородах, в синем сарафане стояла черноглазая служанка.
На дороге улеглась пыль; она вздохнула, и крупная слезинка покатилась по ее щеке…
После немалых трудностей добрался Урлих до Москвы. Дорогой донимали осенние дожди, проселки утопали в грязи, вздулись реки. Ломались колеса, рвались постромки, подолгу приходилось стоять у кузниц да в почтовых ямах. В Москве офицера поджидал приказ: Урлиху свыше давался совет пожить в Москве и не торопиться в Санкт-Питербурх. Урлих понял, что ослушание грозит опалой. Делать было нечего, офицер остановился в Замоскворечье у дальней родственницы. В Москве жизнь шла вяло, замоскворецкие улицы рано затихали; от разбойников и татей ворота и калитки запирались на крепкие запоры с заходом солнца. Родственница Урлиха была старая глухая дева; ей доходил восьмой десяток. От тоски господин Урлих неумеренно прикладывался к бутылям и жаловался старухе:
— В демидовском царстве народ живет по-каторжному. Демидов грозен: сам и пушки льет, и деньги чеканит, и расправу чинит. Когда захочет — губит народ. Я государыне о сем доложить жажду, а меня на Москве держат…
Старуха подслеповатыми глазами посмотрела на молодца и прошамкала:
— И, батюшка, не лезь лучше, не лезь, оно спокойнее. С богатым не судись, батюшка, с сильным не борись… Нажалуешься и сам не рад будешь. Молчи да живи! Лежачий камень и тот мохом обрастает, батюшка, вон оно как!
В Москве Урлих прожил до санного пути и возвратился в Санкт-Питербурх, когда указом государыни дело о злоупотреблениях Демидовых было прекращено.
Урлиху же предложили обратиться к исполнению обычных дел; этим все и окончилось…
Девка-чернавка сбежала от Демидовых к отцу, доменщику Гордею. Никита Никитич был зол, грозил:
— Никуда от Демидовых не сбежишь. От нас ни одна козявка не бегала.
Параличный хозяин приказал Щуке:
— Приведи!
Вечером приказчик пришел к литейщику. В пасти высоченной домны пылал жадный огонь; черные, закопченные сажей стропила и крыша озарялись багровым отсветом. Потные голые рабочие с потемневшими лицами суетились возле печи.
Перед домницей стоял доменщик Гордей и, насторожив ухо, слушал клокотанье в ней. Расплавленная лава ослепляюще светилась. Литейщик был широкоплеч, мускулист, с подпаленной густой бородой и черными глазами. Увидев Щуку, работный угрюмо отвернулся и, как будто не замечая его, уставился в жадный зев домны.
Палила невыносимая жара. Щука покосился на багровое пламя и, ероша бороду, крикнул:
— Небось тепло?
Гордей отмалчивался.
— Вот что! — хлопнул по голенищу плетью приказчик. — Пошто твоя дочь от хозяина сбегла? Гони немедля! Понял?
Доменщик сердито поглядел на демидовского холуя и снова перевел глаза на огненную пасть чудища.
— Ну, — прохрипел Щука. — Гони!
— Чего «ну»?
А про себя подумал: «Момент, и золы от пса не останется».
— Заберем, ежели по добру не хочешь! — крикнул Щука и повернулся к выходу.
Доменщик, опустив плечи, молчал; только сжимались и разжимались кулаки…
К вечеру демидовские холопы пригнали сбежавшую девушку в покои к хозяину. Потупив глаза, она стояла перед Никитой Никитичем. Демидов прищурил глаза, спросил слащаво:
— Почему сбежала, красавица?
Девушка молчала, хозяин ударил рукой по столу.
— Ты вот что, — приказал он строго служанке, — иди, постелю мне готовь.
Она опустила голову, зарделась.
— Ну, не мешкай, проворь!
Прислужница нежданно выпрямилась, глянула, словно ножом полоснула; затопала ногой:
— Без закону не пойду на грех. Не пойду!
— Экось крапива какая. Погоди ж ты! — прикрикнул Никита.
Он пригрозил ей:
— А ежели засеку?
— Ну и секи!
Демидов позеленел, схватил прислужницу за платье, рванул; девушка стояла на своем:
— Не пойду!
— Не баба, а черт! Ишь ты! — Никите вдруг понравилось такое упорство, но отступать было поздно; хоть служанка и крепко по нраву пришлась, а высечь надо за упрямство.