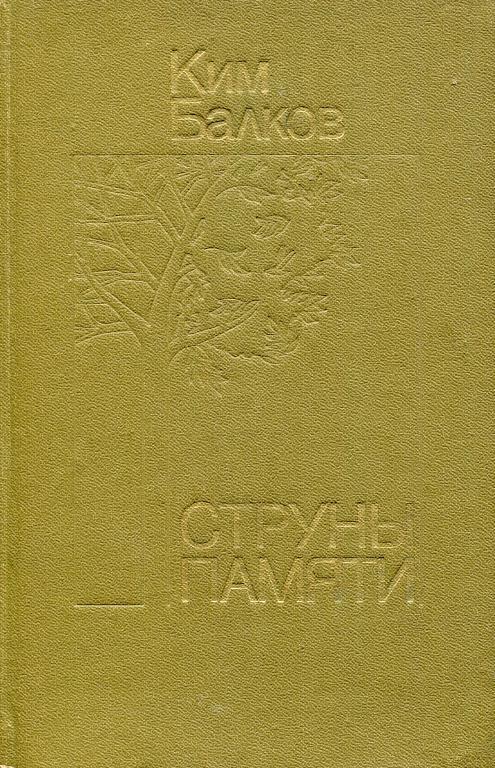идти встречь воинству Святослава, коль скоро он охладел к самому Свенельду. Не вчера сказано: князья вострят меч друг на друга, а у дружинного люда головы летят с плеч. Не долго думая, россы сели в лодьи и отплыли. Невесть какими путями добрались они до Русского моря, в ту пору тихого, нешумливого, пересекли его и, побратавшись с темной ночью, прошли близ Царьграда и много седмиц еще плыли по бурному морю, пока не высадились в Галисии, тут они, изголодавшиеся, измученные без надобного количества пресной воды, но не ослабевшие в духе, пошли на штурм Сантьяго и взяли его на щит. Нашли тут немало добра, и, погрузив его в лодьи, в тот же день отплыли в Бискайский залив. И с тех пор никто не слыхал о них. Куда они подевались? Сгинули иль, отыскав в океане пустынный остров, там и осели?..
— Так все и случилось, — сказал Мирослав, и в широко распахнутых на мир глазах его обозначилось что-то сходное с жалостью к сородичам, утратившим связь с отчиной. То и была жалость. Светла душа у князя дреговичей, не однажды наблюдал приметливый волхв: вдруг да встоскуется Мирославу, и он как бы даже поддастся слабости и посмотрит на тебя с грустью, и долго еще не отойдет. За то и любил его Богомил, понимая в душе росса, которая во всякую пору устремлена куда-то, хотя бы и в дали безвестные. И это даже лучше — если в дали безвестные, легче там дышится россу, любящему простор в мыслях.
— То и худо, что иной раз так раскидает россов, ищущих себя в чужих землях, что и не скажешь сразу, кто и где ныне пребывает, — со вздохом огорчения проговорил Богомил. — А все от неустройства жизни. Но то и ладно, что поход Святослава, счастливо ныне складывающийся, укрепит в наших племенах, чему подсобляют и деяния управительницы росских земель благоверной Ольги, матери Святослава. И да будет вечен над ее головой свет небесный!
То и подействовало благотворно на князя дреговичей, и в глазах у него просияло, и отошел он от премудрого волхва, укрепляясь в надежде.
Меж тем Богомил с сотоварищами подошел к дивно красному строению с маленькими круглыми окнами в каменных стенах, с островерхой башней, утянувшейся к низкому небу, и остановился, пораженный тем, что из распахнутых настежь дверей слышались чьи-то голоса, слабые, пронзительно тонкие, иной раз заглушаемые громким, больно режущим слух плачем.
— Что это?.. — с недоумением спросил Богомил.
— Молитвенный дом иудеев, — с неприязнью в дрогнувшем голосе отвечал молодой хазарин. — Видать, попрятались в его стенах малосильные. Все, кто способен был идти, уже миновали врата Джора.
— Вот как? И чего же они стенают? Иль кто обидел их?
Зашел в храм и при слабом свечном свете разглядел на жертвенном столе священные сосуды, а подле них большую молитвенную книгу, про которую знал, что ее называют Каббалой, и в ней говорится про то, что Бог, наскучав в одиночестве, решил создать равных себе, чего, в конце концов, и достиг через перерождение душ. Но равными Богу оказались только уверовавшие в иудейского Бога, все ж остальные были причислены к нечистым, неспособным к поиску Истины. Чуть погодя Богомил разглядел в храме детей. Их, сидящих на земляном полу, оказалось так много, что волхв подивился тому, как про меж них могли проходить служители Яхве, а их было трое в одинаково темном одеянии и в черных шапочках, с тем, чтобы поддержать ослабших духом тихим незлобивым словом. Некто с длинным худым лицом подошел к Богомилу и тихо спросил:
— Вам что-то нужно?
— Да нет, — сказал Богомил. — Но мне интересно, отчего они все тут столпились? Или им некуда идти?
— А куда бы они могли пойти? Под росские мечи?
— Россы не обижают детей, — сурово сказал волхв.
— Так ли? — не поверил раввин.
И тут случилось что-то… Земля под ногами вдруг зашевелилась, как если бы кем-то была раскачиваема, а чуть погодя треснул потолок и погасли свечи, и синагога погрузилась во тьму.
— О, Боги! — только и сказал Богомил, вдруг оттесненный к стене хлынувшим к распахнутой настежь двери людским потоком. Детский крик и плач, и жалобные стенания усилились, а скоро сделались непереносимы для сердобольного сердца волхва, и он хотел бы закрыть ладонями уши, чтобы не слышать, но сущее в нем, соединенное с пространством синего неба и временем, которое есть начало всему и завершение, не позволили ему поступить так, и он сам, и те, кто был с ним, а также трое служителей иудейского Бога взялись вывести детей из храма. Им было трудно и страшно, теперь уже и потолок кое-где обвалился, к счастью, никто не пострадал, а толстые, из красного кирпича, стены ходили ходуном. Храм рассыпался, точно был построен на песке, когда они вывели из него детей.
Меж тем рати россов миновали каменный мост и подошли к Белой Башне и стали готовиться к ее штурму, и тут кто-то из дружинников наткнулся на мертвого воина в золоченых доспехах со строгим и правильным лицом, не омраченным смертной мукой. Что-то в облике старого воина заставило ратников, не мешкая, доложить о нем Великому князю. Святослав не встречался с Песахом, но сразу решил, что это он… Только непонятно было, отчего тело его врага не подняли с темных острогрудых каменьев и не перенесли в Белую Башню? Неясно было, и отчего царь иудеев принял смерть, на его теле ратники не нашли ни одной разящей раны, которую можно было бы получить в открытом бою. Впрочем, скоро все прояснилось. Прежде наглухо закрытые тяжелые дубовые ворота Белой Башни распахнулись, и оттуда выехали три всадника. Россы в тот же миг окружили их, велели им сойти с коней и подвели, изъяв у них сабли, к Великому князю, пребывающему теперь в нелегком раздумьи, отчего в лице у него обозначилась некая хмурость, про которую знали только в ближнем его окружении и, если вдруг замечали ее, хотя бы и едва обозначенную в строгих чертах лица, то и старались в такие поры быть от него подальше.
— Вы кто будете? — едва глянув на подведенных к нему иноплеменников, холодно спросил Святослав.
— Я везирь, — отвечал некто смуглолицый, в синем кафтане, обтянутом панцирной сеткой, и в красных сапогах. — А это мои беки… Мы приветствуем тебя, о всевеликий каган Руси, и отныне подчиняемся только твоей всемогущей воле!
— А что вам еще остается? — усмехнулся Святослав. Но, может, это была и не усмешка, что-то другое, жесткое и неприемлющее неправды, спросил холодно: — Что случилось с