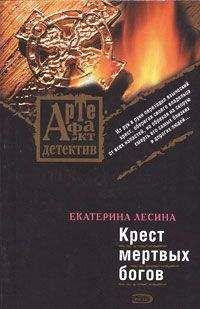запахнулась потуже, заспешила встречь ветру. Шла она, упадая вперед, недолго, свернула в заулок, а оттуда до темной, даже в ночи чернее черного, неприятной для людского глаза, пугающей огорожи рукой подать. Краснопеиха приблизилась к огороже, не мешкая, вытащила топор из-под курмушки, взмахнула им, норовя выбить крайнюю доску. Та задрожала, слабо удерживаемая в связях, закачалась, а чуть погодя, скрипнув, упала. То же утворилось со второй доской, с третьей… Краснопеиха работала, не разгибая спины и позабыв обо всем, даже о том, что мучало, выбивало из колеи. И, ломая огорожу, она как бы подвигала себя к чему-то светлому и отводила от деревни напасть. Она уже не помнила о словах меньшого, хотя, когда шла по улочке, держала в голове и это, и тоскливо вздыхала. Но вот взялась за топор, и все поменялось в душевном ее настрое, стало легко и ни от кого не зависимо, ничему не подчиняемо, хотелось петь. Господи, почему бы радостному ощущению не приходить почаще? Но и то верно, что помнит Вседержитель и про нее, бедную, кто бы подарил ей счастливые минуты?..
Работа для Краснопеихи в сладость, она не ощущала усталости, да что там, она была переполнена чувством собственной надобности, может, этому безотчетно суровому, но лишь с виду такому, а на поверку умеющему пожалеть и приблизить к себе, безоглядному небу. В душе все пело, потом уж не только в душе, и сама не замечая того, она начала старательно выводить светлые и ликующие слова:
«Там, далеко в стране Иркутской
Между двух огромных скал
Обнесен стеной высокой
Александровский централ…»
Она пела, а вместе с нею пели Земля и Небо, и все, что на земле, и все, что на небе, видимое, а так же не видимое, но достигаемое чувствами, призрачное и колеблемое, точно свечечный огонек на ветру.
«Ты скажи, скажи, голубчик,
Кто за что сюда попал,
И начальством был он сослан
В Александровский централ?..»
Она пела и мало-помалу все тягостное отодвинулось, сделалось едва приметно, потом и вовсе исчезло, растворилось в том чувстве соединения с сущим, что постепенно завладевало ею. Она оборотилась в малую часть сущего, и это не пугало: и малость надобна миру. Не во всякую пору близкая Богу, Краснопеиха нынче помнила лишь о том, что она Божьего роду — племени и пьет воду из того же ручья, из которого пили небесные ангелы, любит то же, что и они, и верит в промысел Божий…
В руках у нее накапливалась усталость, и к тому времени, когда ее схватили и вырвали топор, она сделалась мокрая от пота. Ее схватили, завели руки за спину, держали крепко… Краснопеиха изгибалась, но куда же ей тягаться с Амбалом?.. К тому же из темноты вынырнули еще люди, а вместе с ними Револя. В отличие от хмурого Амбала он ладен и подтянут, воскликнул, подбегая:
— Попалась, сука?!..
Но она не хотела верить, что попалась, не хотела согласиться с тем, что поломали в ее душе славное, все то, что приближало ее к Богу, и она упиралась, старалась защитить это, родившееся в ней, и, несмотря на боль, которую причиняли чужие сильные руки, не оставляла попыток вырваться.
Подошел Краснопей, начал говорить, что горько ему и обидно. «Зачем же ты? Зачем?..» Он опасался Амбала и Револи и прибегал к помощи хитрых, с дальним намеком, слов, что и не поймешь его сразу. А улучив момент, сказал: «Ты не волнуйся. Я постараюсь, выручу…» Но она видела, что он не верит этому, слова были тусклые и вялые, остро пожалела его.
— Иди домой, — сказала она. — Ночь на дворе, середина ее. В такую ночь одни тати бродят по улицам.
— Это мы — тати?.. — взвился Револя.
Но Краснопеиха и не посмотрела на него, что-то случилось с нею, помнилось, что возле нее нынче не люди, а сатанята, прибегшие от дьявола, чтобы вершить суд неправый, а может, это он сам, раздробившись, оборотился в человеков, и те теперь вьются вокруг нее и визжат. И хочется ей сказать дьяволу, не пугаясь, вещее:
— Не судите сами, да не судимы будете.
Время спустя Краснопеиха покорно пошла впереди тех, кто пленил ее, и лишь перед лагерными воротами лицо ее исказилось от душевной боли, долго удерживаемой, и она сказала с мольбой в голосе:
— Господи, услышь Ты нас?!.. Господи!..
Она вдруг поняла, что более всего на свете любит эту, приютившую ее землю, и будет защищать ее, пока бьется сердце. И никому не отдаст ее. Никому.
Револя узнал, что Мотька путается с лагерной охраной, от Амбала. Трудно объяснить, отчего тот сказал про это, в последнее время и слова из него не вытянешь. Револя поверил и смутился. А смутившись, недолго раздумывал. Уже во вторую встречу с Мотькой был зол и нетерпелив, нет, не в разговоре с нею, в любви. Это страшно поразило Коськову. Легши с ним в постель, она привычно ждала от него действий вялых и ленивых, но все вышло не так, как предполагала, не утерпела, спросила с недоумением, впрочем, приятным для нее:
— Что с тобой? Вот лежу и не пойму, ты ли рядом со мною, нет ли?..
— Не я, другой… — отодвигаясь и дыша тяжело, сказал Револя. Спросил: — А что, много их у тебя?..
— Окстись!.. — отвечала Мотька. — Откуда?.. Сроду никого не приголубливала, кроме тебя, дурня.
— Врешь!.. — воскликнул Револя. Он хотел бы выказать свои истинные чувства к Мотьке, но теперь как бы не принадлежал себе и не мог ничего поделать с этим и все больше подвигался к смущению, но лишь, как и свойственно ему, к легкому смущению, в котором, впрочем, угадывалось немало противного подобному чувству, в частности, неприязнь сначала к Мотьке, потом и к себе.
— Врешь!.. — повторил он, подымаясь с кровати.
Мотька откинула одеяло, тоже хотела встать с постели и почему-то не смогла. Револя решил, что она испугалась, и посуровел, намеревался сказать еще о чем-то, чтобы окончательно вывести на чистую воду неблагодарную женщину, но слова не шли с языка. Какое-то время он стоял посреди комнаты, одной рукой поддерживая штаны, а другой очерчивая в воздухе.
Мотька с лихорадочной поспешностью соображала, что бы мог узнать Револя; она и мысли не допускала, что про ее крученье с лагерной охраной известно ему; она так ни до чего и не додумалась и сказала себе, что