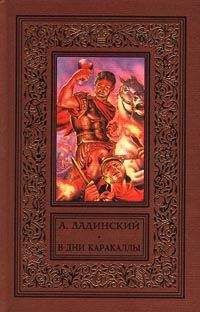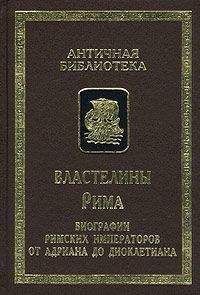Она лукаво улыбнулась.
— Рада, что парфянская стрела пощадила тебя!
— Не сердись на меня! Я писал тебе, как глупец, под влиянием вина… Один легкомысленный поэт сочинил для меня это письмо…
Но Виктор уже спешил к дочери:
— Грациана! Грациана!
— Поэт? — спросила девушка.
— Едва ли ты знаешь этого человека. Его зовут Вергилиан.
Грациана закусила нижнюю губу.
— Вергилиан…
Виктор тяжело отдувался.
— В этой давке мне сломали все ребра. Но скажи, трибун, где теперь достопочтенный Цессий Лонг?
— Легат погиб при взятии Арбелы.
— Искренне опечален.
Мы стали медленно спускаться по ступенькам. Наталис бесследно исчез. Впереди уже была видна широкая арка ворот, около нее улыбался нам Вергилиан. Близился вечер. Я заметил, как среди моря человеческих голов проплыла на носилках, на плечах четырех черных рабов, Соэмида. Красавица возлежала на шелковых подушках, подобно некоей восточной богине, и, отодвигая слегка занавеску, со снисходительной улыбкой смотрела на этих грубоватых римлян и на их жен со слишком резкими чертами лица.
Один из конных воинов, приставленный наблюдать у цирка за порядком, белокурый юноша, очутился рядом с носилками. Соэмида скосила глаза, чтобы посмотреть, как он сжимал нагими голенями бока непослушного коня. Наклоняясь к сопровождавшему ее евнуху, она что-то сказала ему, почти не разжимая рта.
Опустив ресницы и кротко улыбаясь, Соэмида как должное принимала изумление толпы перед ее жемчужной диадемой. Белокурый воин, опасаясь, как бы не вызвать нареканий со стороны жестокого центуриона каким-нибудь упущением, не обращал на красавицу никакого внимания. Но евнух уже ухватил рукой повод его коня.
— Скажи, воин, какой ты будешь центурии?
Он что-то объяснял всаднику и даже округленными движениями рук как бы рисовал в воздухе очертания женского тела. Юноша смотрел на него, плохо понимая, чего от него хотят. Вероятно, он еще не одолел латинской речи. Появился центурион.
— Тебе, старичок, что здесь надо?
Мне показалось, что юноша как две капли воды походил на того пленника, которого однажды на моих глазах приковали к легионной повозке.
Состоялось ли у Соэмиды еще одно любовное свидание? Об этом я узнал много времени спустя из разговора с молодым воином, встретившись с ним случайно и при самых странных обстоятельствах, под шум моря, на корабельном помосте, о чем — впереди, а пока я не мог насытиться поцелуями рыжеволосой Проперции. Вергилиан улыбался и покачивал головой…
Рим правил вселенной, судил и разрешал, посвящал все помыслы честолюбию и наживе, воскурял фимиам, предавался удовольствиям. Но Вергилиан и Делия, увлеченные своей любовью, удалились от этой шумной жизни и почти все время проводили в загородном доме, который предложил поэту сенатор Квинтилий, оставивший Рим в страшном потрясении от открывшейся измены супруги и совершавший в те дни далекое благочестивое путешествие. Владельца мастерской погребальных урн окончательно замучили болезни, и он уже не помышлял о пламенных танцовщицах. У каждого были свои огорчения.
Теперь Вергилиан не расставался с Делией. Я видел, что поэта влекла к ней какая-то непоборимая сила, и кажется, сам он не мог бы объяснить, в чем заключается это волшебство. Я тогда был еще молод и только потом, много лет спустя, за писанием этих строк, вспомнил некоторые слова, взгляды, улыбки, какими обменивались счастливые любовники, и считаю, что это рок соединяет человеческие сердца. Может быть, еще сильнее, чем страсть, нас привязывают к женщине те разговоры, что мы ведем с ней на ночном ложе. Это они соединяют два существа крепче всяких других уз или навеки разделяют во взаимном непонимании. Ничего нет на земле сильнее любви, опаляющей огнем не только рот, но и душу. Неужели это только потому, что проказливый сын Венеры ранит нас предательской стрелой? Но человек томится и страдает, как будто бы это не любовь, не радость, а тяжкий недуг; любимая отвернулась от тебя — и вот все становится в мире полным странного беспокойства, сомнения и жгучей ревности…
Встреча с Делией заставила Вергилиана забыть о прошлом. От Грацианы остался приятный холодок, а Соэмида растаяла в забвении, как туман. Ничего не осталось у него в сердце и от тех египетских красавиц с миндалевидными глазами, что катались вместе с ним на барке в Канопе, где по ночам в тавернах слышится сладкая музыка. Ни от прелестной Психеи, так искусно игравшей на арфе, ни от нежной поэтессы Скафионы! Все мысли его были теперь связаны с Делией. Любовь! Что это было такое? Сродство душ, о котором говорит Платон, или способность женщины выразить в телесной любви самое прекрасное, на что она способна на земле?
Иногда поэт и Делия отправлялись вместе куда-нибудь на прогулку, подальше от Аппиевой дороги, где модницы и щеголи показывали свои драгоценности, дорогие повозки, запряженные мулами в серебряных уздечках, или носилки из черного дерева, и где все разговоры были посвящены пустячным сплетням.
Наслушавшись о талантах мима Пуберция, от которого были без ума все посетители театральных зрелищ, Вергилиан и Делия решили посмотреть на его необыкновенное искусство. Шла знаменитая пантомима «Яблоко Париса» в великолепной постановке. На этот раз они взяли меня с собой.
Театр Помпея был переполнен. Мы уселись на прохладную мраморную скамью с удобной спинкой. Вокруг волновалась шумная толпа. Люди разговаривали, смеялись и ели медовые пирожки или гранатовые яблоки. Впереди, среди розовомраморных колонн портика, замыкавшего с задней стороны просцениум, суетились общественные рабы, заканчивая устройство великолепного зрелища. Сцена изображала гору Иду, у подножия которой стояли деревья со странными золотыми и серебряными листьями и, как настоящий, журчал ручей.
Началось представление. Под звуки весьма приятной и невидимой музыки на просцениуме появилось стадо белоснежных овец и баранов с позолоченными рогами. Их пас, играя на цевнице, сделанной из тростника, Парис — Пуберций. Зрительницы замерли от восхищения.
— Настоящий Парис не был бы прекраснее!
Соседкой Делии была дородная матрона с огромными серьгами в виде серебряных спиралей. Розовый шелк упруго сжимал ее объемистые бедра. Она не могла сдержать свой восторг.
Торс Пуберция едва прикрывала белая овчина. Ноги его напоминали о некоторых статуях Аполлона.
— Смотрите, смотрите! Меркурий! — переживала всей душой представление соседка.
Из нарисованных облаков медленно спускался на незримой веревке лукавый бог. Игравший его роль акте, тоже отличался редкой красотой. На белых сандалиях поблескивали золотые крылышки.
Затем появились три богини — три соперницы. К ногам бесстыдно обнаженной Венеры прижимались дети, наряженные амурами. Здесь каждый мог усладить свое зрение по собственному вкусу.
Но Делия со скукой смотрела на зрелище. Сколько раз она сама играла роль богини, хотя и не среди таких, может быть, пышных декораций, и считала, что служит искусству. Вот так же она танцевала среди барашков, и так же Парис старался вызвать у зрителей и зрительниц восторги жеманными позами, то грациозно отставляя ногу, то горделиво поворачивая запрокинутую голову, чтобы все видели безукоризненные линии его шеи… Мне, как всякому юнцу, было занимательно смотреть на мимов и на красивых комедианток, напоминавших Проперцию…
Но мы скоро оставили театр и долго бродили в тот вечер по затихшему Риму, слушая шум фонтанов и вдыхая запах листвы в садах Мецената.
В один прекрасный день мы отправились втроем на повозке к Эридию Веспилону, другу детства Вергилиана, в поместье, расположенное не очень далеко от Неаполя, и я поблагодарил судьбу, что увижу и этот чудесный город. Я радовался также, что хоть на время покидаю Рим, надеясь найти вдали от него забвение и исцелить тяжкую рану в моем сердце.
Это случилось, как всегда происходят подобные вещи. По-прежнему я пробирался каждый вечер к тому дому, где жила Проперция. Но напрасно я стучался в ее дверь и взывал к высокому окну, умоляя о позволении подняться хотя бы на одно мгновение. Жестокая не отвечала. Я уходил домой и снова возвращался на другое утро, чтобы подстеречь, когда возлюбленная выйдет на прогулку. Увы, очевидно, в ее доме существовал второй выход, потому что она никогда не появлялась на-пороге, и я, как голодная собака, снова брел к садам Мецената, где тоже не находил себе покоя.
Однажды я стоял, прислонившись к каменной стене, в том переулке, в котором жила Проперция, и ждал, не появится ли, наконец, моя рыжеволосая мучительница. Рядом трудился и стучал молотком башмачник, заколачивая гвозди в непослушную кожу. Он вышел из своей лавки и с неудовольствием посмотрел на меня.
— Что тебе нужно? Кого ты сторожишь здесь, молокосос?
Я был рад поговорить о своей возлюбленной хотя бы с этим простым человеком.