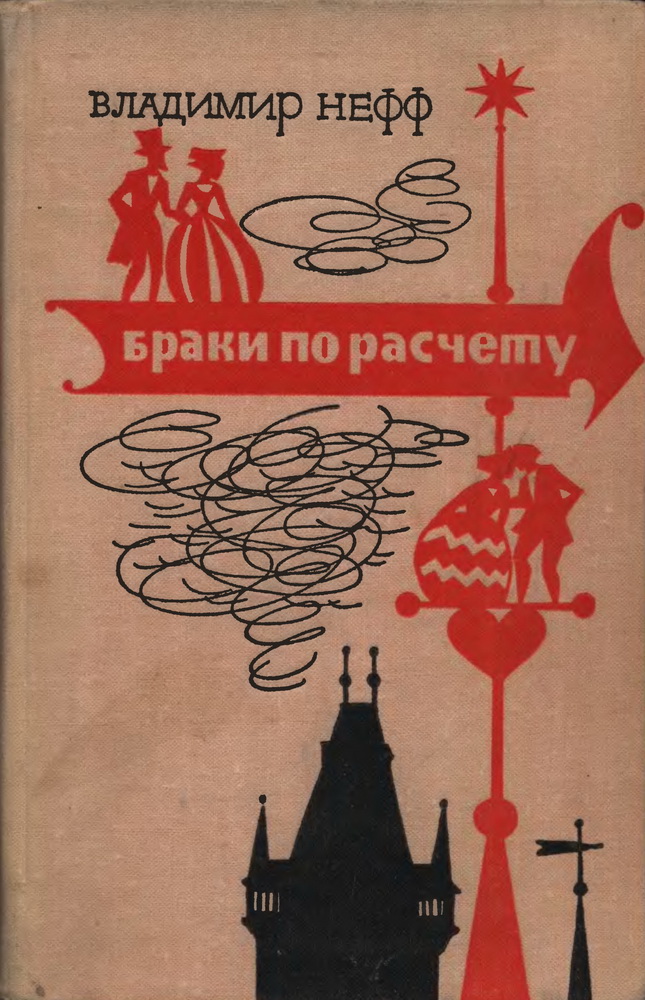мире все наслаждения и прожить в нем как можно приятнее. Поэтому я не опасаюсь, пан Дынбир, что в ближайшем будущем вы направите свои стопы в пустынь, и ваш элегантный вид утверждает меня в такой уверенности.
При этих словах Шарлиха художник Новак-Коломлынский расхохотался, и Лиза, подсевшая снова к самовару, с отвращением почувствовала, как сотрясается канапе от его беззвучного веселья.
— Не понимаю, почему у Борнов никогда не говорят о нормальных вещах, — вполголоса заметила от окна пани Легатова, любительница кошек и собак. — Все какие-то учености, патриотизм, а о жизни ни полслова.
— Нет, я с большим удовольствием слушаю, когда ученые люди затевают споры, — возразила дочь ее Либуша, поправляя пенсне.
— Наконец-то девятка треф, ты-то мне и нужна, голубушка, — пробормотала пани Баби. — Патриотизм — это еще куда ни шло, только б не о социализме, вот где ужас-то. Мой муж всегда так расстраивается, что боюсь, как бы его удар не хватил.
— Что касается личных взглядов пана Дынбира, то тут ничего возразить нельзя, — говорил тем временем Борн. — По мне, пусть хоть Вельзевулу молится или духов вызывает.
— Вы будете смеяться, но я действительно вызываю духов, — вставил Дынбир.
Борн, сдвинув брови, движением головы отмел это замечание, которое он принял за плоскую остроту молодого богача.
— Но если пан Дынбир выражает общие настроения своего поколения, если он говорит не за одного себя, но и за то поколение, которое вступает в жизнь и от которого мы ждем помощи в наших трудах, — тогда дело плохо.
— Я не разделяю и этих опасений, — возразил Шарлих. — Правда, в наш век множатся признаки того, что гигантское культурное явление, называемое христианством, неспособно владеть помыслами и деятельностью населения Европы вечно. И если оно однажды исчезнет, то не для того, чтобы оставить после себя пустоту или тем более уступить место пессимистическому мировоззрению. Единственное, что может победить христианство, будет просвещенный оптимизм, который справится с бедствиями человечества лучше и действеннее, чем это сумели сделать мы с нашим учением о первородном грехе и искуплении.
— Что слышу я! — возопил доктор Легат, до сих пор молча и хмуро улыбавшийся. — Воистину наш век — век чудес! Многое я видел и слыхал такого, чего не мог охватить разумом, до смерти не забуду, как на меня подействовало, когда я впервые в жизни увидел едущий «пароход» или когда впервые увидел телеграф в действии. Но все это ничто по сравнению с тем, когда я здесь, в буржуазном салоне, слышу, как католический прелат возвещает социализм!
— Ха! — грубым голосом вскричал Смолик, до того возмущенный, что утратил способность выражаться членораздельно. — Ха!
— Вот, я говорила — начинается, — шепнула пани Баби и громко сказала: — Еник, уже поздно, может, пойдем?
— Да, социализм, — упрямо повторил Легат. — Ибо что иное, кроме социализма, мог иметь в виду доктор Шарлих, говоря о единственном учении, которое будет в силах победить христианство и справиться с бедствиями жизни? Сколь мрачные перспективы для нашего милого Борна! Это, господа, называется изгонять черта дьяволом или попадать из огня да в полымя!
— Пожалуйста, избавь нас от твоих обычных глупых шуток, — негодующе сказал Борн. — Ты знаешь так же хорошо, как и я, что доктор Шарлих ни о каком социализме не говорил.
— Конечно, — поспешил вставить Шарлих, — слов любви и терпимости никогда не заглушить слову ненависти.
— И это говорите вы, — возразил Легат, — как будто не знаете, что за последние семьдесят лет в этом благословенном мире было не менее тридцати революций. Странные мы люди! Все нас интересует — кроме того, что действительно важно. Мы строим Национальный театр, просим императора Франца-Иосифа надеть себе на голову чешскую корону, доктор Шарлих проповедует тут новую религию любви и терпимости, Смолик выжимает рабочих, чтоб идти в ногу с немецкими спичечными фабрикантами, а пан Дынбир читает Шопенгауэра и борется с демонами разлада, между тем как вся Европа бряцает оружием, а чуть в стороне от нас, буквально за воротами, в Горжовицах, в Жатце, даже в Пльзени ремесленники бунтуют от голода и громят еврейские лавки.
— Друзья, не лучше ли перевернуть страницу? — проговорил Борн, недовольным взглядом упрекнув Лизу за то, что она не заботится о гостях и сидит как пень.
— Кузен, еще чашечку чаю? — обратилась та к Смолику; фабрикант, красный и мрачный, глубоко дышал, издавая такой звук, как если бы из котла выходил пар.
— Никаких чаев, — глухо проворчал он. — Я изверг рода человеческого, и не надо мне никаких чаев.
— Ох, кузен, нельзя же все так понимать, ведь это было сказано в шутку! — сказала Лиза и, обиженная тем, что молодой красавец Дынбир уже долго не глядит на нее, послушная довольно неудачной мысли, обратилась к нему с вопросом — что он обо всем этом думает.
— Конечно, во многом я согласен с доктором Легатом, — ответил Дынбир. — Я не был бы молодым и не был бы — позвольте мне сказать это, несмотря ни на что, — не был бы поэтом, если бы меня не манил мир идеала, мир вымышленный, мир Утопии, где люди жили бы счастливо и дружно, как братья и сестры, и где, по выражению доктора Легата, не выжимали бы пролетариев.
Смолик, которого уже несколько минут будто что-то душило, теперь взорвался.
— Давайте, давайте, не стесняйтесь! Я выжимаю рабочих, я заставляю работать маленьких детей, я виноват во всем дурном, что делается на свете. Это мне преподносят каждую среду. Чего ради я должен это терпеть? Всю жизнь я работал как вол, во всем себе отказывал, неужели мне теперь за это сносить оскорбления? Но я человек терпеливый, и пока меня допекал один доктор Легат, я не обижался, думал: ладно, болтай себе, ты ведь тоже начинал с пустыми руками, как и я, и тоже немало перенес, пока выбился в люди. Но чтобы мне читал наставления желторотый юнец, который за всю свою жизнь двух стебельков крестом не сложил, — это уж благодарю покорно!
— Еник! — воскликнула пани Баби и забормотала невнятно, словно читала молитву. — Еник, Еник! Не забывай о своем сердце!
Но Смолика не так-то легко было утихомирить.
— Юнец, живущий на деньги, которые сам не заработал! — продолжал он, возвышая голос и тяжко дыша. — И он смеет читать мне проповеди о социализме! Этого, простите, я не позволю…
Дынбир, обиженный, покрасневший, поднялся с места и повернулся к смешавшейся, испуганной Лизе:
— Милостивая пани, извините меня великодушно за то, что я невольно дал повод к этому бессмысленному спору, и разрешите мне удалиться…
— Друзья! Друзья! — вскричал Борн и строго поглядел на Лизу, видимо недовольный тем, что