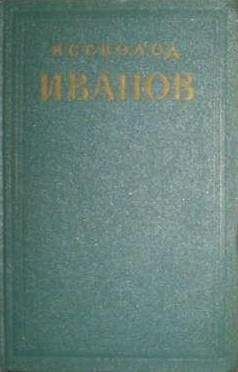С бронепоезда спустили батарею и выгрузили два броневика. Светало. Среди голубой мглы, покрывавшей город, мелькали огоньки: бабы уже затопили печи. Пархоменко выбрал позицию для батареи и в волнении ходил перед мостом. Ждали разведку. Разведка вернулась быстро.
— Ночью штаб найти трудно, товарищ командующий.
— По караулам надо узнавать.
— Караулы чуть ли не у каждого дома, товарищ командующий.
— А где их батареи?
На горке возле тюрьмы. Поди, и батька Максюта там. Вот они тут пишут что-то, — и разведчик подал найденную анархистскую газету.
Пархоменко велел колонне двигаться через мост. На востоке пробивалась сквозь облака ярко-красная лента приближающегося солнца. Внизу, под мостом, река лежала фиолетовая, почти черная, без всплесков. Пархоменко, на броневике, обгонял ряды бойцов и каждой роте говорил коротенькую речь минуты на две.
Засаду на станции Багаузов удалось окружить и захватить целиком. Получалось так, что город не знал ничего о том, что происходит. Пархоменко оставил броневик у моста и, взяв с собою пять ординарцев, вышел на большой проспект вдоль течения Днепра. Вдали возвышалась громада потемкинского дворца; из общественного сада, разбитого по спуску от дворца, несло запахом цветов. Проспект был гол, парадные все заперты, и окна занавешены.
Далеко где-то, из переулка, послышался стук машины. На проспект, шагах в трехстах от Пархоменко, выскочил мотоциклет. Пархоменко поднял бинокль. Мотоциклет подкатил к парадному, и оттуда вышел человек с большим портфелем и сел позади мотоциклиста. Затем показалась легковая машина. Мотоциклет направился к ней, сделал круг около нее и пошел рядом. Шесть вооруженных людей сидели в машине, а возле шофера торчал ручной пулемет.
— Максюта из себя каков? — спросил Пархоменко у ординарцев.
— А он всегда при пулемете и в машине.
Пархоменко коротко и сухо рассмеялся:
— Примета верная. — И, подталкивая ординарцев к ближайшему дому, он сказал: — Вы, ребята, прячьтесь в воротах и наблюдайте за мной. А когда крикну, бейте их по головам, но и мою умейте отличить. Точка!
Максюта вчера выпустил арестантов из тюрьмы и роздал им много товаров. Среди арестантов оказались знакомые. Они устроили пирушку и вполне резонно заявили, что качаются с батькой на одной перекладине: если ты уж выпустил из тюрьмы, то давай пировать вместе. Попировали хорошо, так что, когда Максюте сообщили о выстрелах, слышимых со стороны моста, он встал с гудящей и ноющей головной болью. «Совсем не очищенную водку пьем, — подумал он скорбно, — а еще атаман у нас акцизный чиновник». Он вышел к машине недовольный, думая, что на окраинах города началось восстание рабочих. Максюта сидел в машине, держа на коленях револьвер, и хмуро смотрел в широкую спину шофера. С машиной поровнялся мотоциклет. Максюта увидал редактора Штрауба, его черную голову и услышал его самоуверенную речь. Только что присланные телеграммы Григорьева требовали усиленных действий. Кроме того, Григорьев вызывал к себе Штрауба, видимо для того, чтобы отправить его к Махно. Максюта смотрел в лицо редактора и думал, под каким бы предлогом оставить в Екатеринославе его жену. И так как не мог выдумать предлога, то сердито сказал:
— Следуй за мной. — И добавил шоферу: — Полный!
Тем временем Пархоменко, заложив руки за спину и держа там револьвер, посвистывая, вышел на середину проспекта. Машина, пыхтя, крайне торопясь, приближалась. Кузов ее, цвета светлой охры, поднявшееся солнце превращало в оранжевый. Мотоциклет несколько отстал.
«Хорошо, — подумал Пархоменко, — после машины поговорим и с мотоциклетом». Он вообразил, каким из себя должен быть Максюта, и тут ему вспомнилось, что Максюта когда-то был конокрадом. Тотчас же в памяти мелькнула тюрьма: одноглазый цыган, топивший печи у «политических» и рассказывавший — и даже показывавший — жаргон конокрадов. Цыган любил жаловаться и, жалуясь, поднимал широкий, весь в морщинах, с обкусанным ногтем палец. Он привык, по его словам, кусать палец всегда, когда его били. А били его много. Отсюда и запомнил Пархоменко этот жест поднятой руки с отставленным указательным пальцем, что значило: «Я один».
И Пархоменко поднял высоко руку с отставленным указательным пальцем.
Сидевший с краю мужчина толкнул шофера рукояткой маузера. «Максюта», — подумал Пархоменко. Машина остановилась. На него направили дула револьверов.
Пархоменко, слегка наклонив вперед корпус, короткими шагами, сильно сгибая колени, приблизился к машине.
— Чего это вы, — сказал он смеясь, — одного человека уничтожаете бомбами, револьверами и пулеметами?
Поровнявшись с машиной, он сплюнул и вдруг, вытянувшись, откинулся назад, а затем внезапно прыгнул на подножку. Он схватил Максюту за руку, в которой тот держал револьвер, и так сжал ее, что револьвер упал на подножку, к ногам Пархоменко.
Пархоменко подвел кобальтовое дуло револьвера к виску Максюты и не спеша и не громко спросил:
— Ты из каких? Духовный, что ли, волос-то сколько?
Максюта, как и все в машине, думавший, что происходит какое-то недоразумение или что перед ними стоит бежавший из больницы душевнобольной, сказал возможно более вразумительно:
— Я батько Максюта, командующий войсками анархии. А ты кто?
И Максюта, с тревогой глядя в странно смеющиеся и сверкающие глаза человека, держащего револьвер, толкнул шофера ногой. Шофер стал было поворачивать пулемет к Пархоменко, но тут Пархоменко сказал:
— Да и я командующий войсками. Только советскими.
И он спустил курок.
Тело Максюты быстро, словно по блоку, поползло на дно машины. От выстрела, от брызнувшей крови у четырех сидевших в машине окаменели руки. Откинув назад головы и стараясь втиснуть их возможно глубже в плечи, вытаращив налитые кровью глаза, они могли следить только за длинным, рельефно выделяющимся дулом револьвера, и только один пулеметчик, рыжий и рябой парень, дернулся наставить пулемет свой на Пархоменко. Получив удар наотмашь в лоб, он выпал из машины, но и тут не успокоился. Крича, что умрет с пулеметом, и стирая рукавом кровь со лба, он лез к своей машине.
Проспект пересекали, с винтовками наперевес, ординарцы. Отталкивая ногой пулеметчика и водя револьвером перед лицом четырех, Пархоменко крикнул бежавшим ординарцам:
— Мне и одинокому хорошо! А вы мотоциклет упустите, дьяволы! В шину бейте. Языка берите, уедут!
Мотоциклет, сделав крутой поворот, уходил. Сидящий позади мотоциклиста беспрерывно оглядывался, не замечая, что у него из портфеля сыплются бумаги. Когда раздались выстрелы, мотоциклет на мгновение остановился и мотоциклист поднял было руки, но сидящий позади него взмахнул револьвером, и мотоциклет свернул в боковую улицу…
Пять часов спустя весь Екатеринослав можно было считать очищенным от григорьевских банд. Произошло это 13 мая 1919 года. И в тот же день советские войска прорвали фронт румынской армии, и через день в противоположной стороне фронта советские войска отбили Луганск у наступавшего генерала Деникина.
Пятнадцатого мая в харьковской газете «Коммунар» напечатали разговор по прямому проводу с особоуполномоченным обороны, командующим екатеринославским фронтом А. Пархоменко. Командующий сообщил подробности о взятии Екатеринослава, об уличных боях, о разгромленных засадах, о пленных, о трофеях — орудиях, пулеметах, винтовках — и коротко закончил свое интервью словами:
«Уничтоженных бандитов — громадное количество. Между прочим убит называвшийся командующим армией Максюта».
Но в газете не были напечатаны другие скромные слова Пархоменко, которые он сказал после занятия города:
«Это что! Самый серьезный фронт — за городом».
И Пархоменко, взяв с собой два орудия, пятьдесят курсантов и сорок сабель, той же ночью отправился в глубокий обход григорьевцев. Всю ночь скакали на тачанках проселками, изредка помогая артиллеристам вытаскивать застревающие в песке орудия, и рано утром увидали перед собой на холме белые квадраты хат в ало-синих утренних рощах. Здесь стояли главные силы григорьевцев.
Пархоменко, дав залп из двух своих орудий, повел в атаку девяносто своих бойцов. Возле школы, на краю села, он увидал артиллерийский обоз с четырьмя орудиями в полной запряжке. Пархоменко с обнаженной саблей, с шапкой, сдвинутой на затылок, подскакал к артиллеристам и, не объясняя ничего, крикнул:
— Поворачивать орудия и бить вдоль улицы! Бегло!
Одному из артиллеристов, показавшемуся самым смышленым, он приказал:
— А ты командуй!
Артиллеристы повиновались. Опустив саблю и поглаживая потную гриву коня, наклонившись вперед и сощурив глаза, Пархоменко наблюдал, как бьют шесть его орудий. Бывший пулеметчик Максюты, тот самый рыжий парень Сенька Макагон, что яростно защищал свой пулемет и был за смелость не только помилован, но и присоединен к бойцам, уничтожающим бандитов, подскакал к Пархоменко и сообщил, что пленных насчитывается уже две роты и что григорьевцы босиком, в нижнем белье, побросав оружие, бегут из села.