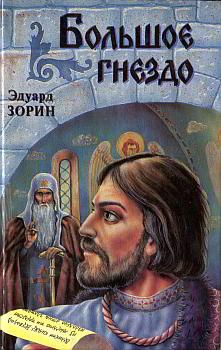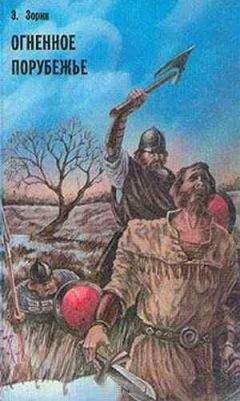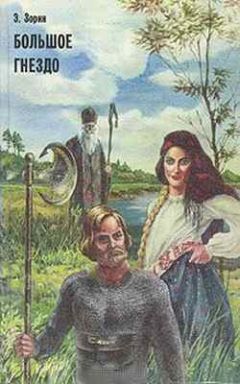Из темноты раздался знакомый голос богомаза:
— Высока у хмеля голова, да ноги жиденьки.
— А ну-ка, покажись на божий свет,— просунулся в дверь Никитка.
Зихно выполз из-под рваной ферязи, уставился на него пустыми плазами. Никитка схватил богомаза за шиворот.
Лепила отступил за порог, завопил истошно;
— Режут!
Протрезвев от крика, Зихно уперся в притолоку обеими руками.
— Ты меня, Никитка, не трожь,— сказал он заплетающимся языком. Увидев Злату, осклабился.— Вот и голубка на порожек присела: гули-гули...
Злата заплакала, отвернувшись. Никитка упрекнул богомаза:
— Креста на тебе нет, Зихно.
— У баб у всех глаза на мокром месте,— буркнул богомаз, но заметно попритих и покорно поплелся за Никиткой. Злата, всхлипывая, шла сзади.
Встречные мужики на улице останавливались, узнавали богомаза, подшучивали:
— Снова взяли Зихно в полон.
— Ведут, как быка на поскотину...
Два дня богомаз отсыпался. На третий, попарившись в баньке, сказал, что сговорился с игуменом и идет в Суздаль расписывать монастырскую трапезную.
— Да что ж тебе во Владимире не сидится? — удивился Никитка.
— Скучно у вас,— виновато улыбаясь, сказал Зихно.
— А ты все веселья ищешь?
— Душа на простор просится...
Больше ни о чем его расспрашивать Никитка не стал. Ушел в свой сруб, заперся, до обеда не выходил. Днем, когда позвала Аленка, молча похлебал уху и снова исчез.
Зихно с вечера собрал краски и кисти, сложил в мешок. Злата незаметно сунула ему туда же кусок хлеба и две репы. Утром, ни свет ни заря, была уже на ногах.
— Ты куда это собралась? — спросила ее Аленка.
Злата, будто и не слыша, молчала.
— И не смей с ним ходить,— догадалась Аленка,— Ишь, чего выдумала.
В горнице появился Зихно, стал прощаться с хозяевами:
— Спасибо вам, добрые люди, за хлеб, за соль.
Никитка сказал:
— Моя изба — твой дом, Зихно. Ежели надумаешь, возвращайся. Всегда рады будем.
Зихно поклонился ему, поднял мешок, взвалил на плечо:
— Не поминайте лихом.
Только тут Аленка заметила, что Златы нет в избе. Туда, сюда сунулась, выскочила во двор.
— Ты чего суетишься?— спросил ее Никитка.
— Никак, ушла девка с богомазом.
Никитка засмеялся:
— А где же ей еще быть?!
Выбежала Аленка за ворота — ни души на улице...
...Ковыряя пальцем лапоть, Зихно сказал:
— Нет, не возьму я тебя с собой, Злата. Возвращайся лучше к Никитке. Пропадешь ты со мной...
Опустив взгляд, Злата молчала. Зихно поморщился, почесал со старанием пятерней в затылке. И с чего это вдруг она привязалась к нему — ну, словно собачонка.
Сроду не бывало такого с богомазом. Привык он жить сам по себе. Нынче в брюхе пусто, завтра — пир, нынче — сена стог, завтра — пуховая постель, нынче попадья, завтра — боярыня. Неужто пришел конец его привольной жизни?!
Из ворот, вихляя колесами, выползла телега. Понурая лошаденка мотала головой, отмахиваясь от мух, мужик, свесив ноги с передка, клевал носом.
— Тпру,— подошел Зихно к телеге.
Мужик проснулся, вскинул на него мутные от тоски глаза. Покосился на Злату.
— Не подвезешь ли до Суждаля? — спросил его Зихно.
— Отчего ж не подвезти,— сказал мужик,— Садись.
Богомаз бросил на дно телеги мешок, сел позади мужика. Телега тронулась.
Не оборачиваясь, мужик спросил:
— А девка не твоя ли?
— Тебе-то что? — сказал Зихно.
— Да мне-то ничего. Только девка, кажись, твоя.
— А хоть и моя?
Зихно осерчал. Мужик взмахнул кнутом, ожег лошаденку по тощему заду. Телега затряслась, затарахтела на выбоинах. Злата все так же неподвижно сидела на обочине. Зихно поморщился.
— Стой,— сказал он мужику.
Телега остановилась. Зихно спрыгнул с задка, подошел к девушке.
— Ты чего? — спросил, оборачиваясь, мужик.
— Пойдем, что ли,— сказал Злате Зихно и взял её за руку. Рука у нее была холодной и влажной. Богомаз улыбнулся, и лицо девушки медленно осветилось встречной улыбкой.
Держась за руки, они вернулись к телеге, сели спи ной к мужику, свесив ноги с задка. Сняв кафтан, Зихно набросил его Злате на плечи:
— Холодно.
Телега покатилась под уклон. За поворотом город скрылся из виду. От клязьминской поймы потянул свежий ветер. Серебряной лентой сверкнула за развесистыми ивами река. А там, где Клязьма сходилась с Нерлью, на низменном лугу, то исчезая, то снова показываясь из-за деревьев, открылась их взору нарядная, как невеста, белая церковь Покрова.
3
Сильно сдал за последние два года Чурила. Хвастался он могучим здоровьем, буйная сила была в его руках, да и сейчас гнул он подковы, но однажды, возвращаясь в свою келью с заутрени, вдруг почувствовал, как заволокло туманом монастырский двор. Остановился Чурила, протер глаза — думал, надуло ветром соринку,— но туман становился все гуще, и уж не мог он идти, а присел на дубовую колоду, удивленно поводя во все стороны большой кудлатой головой.
Шел мимо него трапезарь с зажженной от лампады лучиной, удивился:
— Эк перевернуло тебя, Чурила. Уж не пьян ли?
— Пьян, да не от вина,— сказал Чурила, слепо протягивая к трапезарю руку.— Помоги добраться до кельи.
Принюхался трапезарь — не пахнет от чернеца вином, перепугался:
— Ровно слепой ты...
— Слепой и есть. Ни двора не вижу, ни святой церкви, ни креста на ней. Солнышко на небе аль ночь темна?
— Солнышко, Чурила.
— Припекает лицо... Да и голос твой вроде знакомый, а кто такой — не угадать.
— Трапезарь я.
Подхватил он Чурилу под руку, повел ко всходу. А на всходе монах ступеньки переступить не может: что ни шагнет, то спотыкается. Едва добрались до кельи.
Посадил трапезарь Чурилу на лавку, что дальше делать — не знает.
— Зови игумена,— надоумил его Чурила.
Опрометью выскочил трапезарь во двор, переполошил монахов, разыскал в соборе игумена. Когда привел его, в келье у Чурилы уже толпился народ. Вздыхали монахи, дивились:
— Еще вечор здоров был.
— Никак, обет нарушил...
— Чурила — чернец праведный,— заступались за него другие. Кто зло, а кто участливо, но все глядели на него с испугом: что, как нечистая сила вселилась в их собрата? Сопели, крестились, с недоверием рассматривали толстые книги, расставленные на сосновых досках вдоль стен. Уж не от них ли вся и беда?..
Игумен, войдя, застучал посохом, закричал тонким голосом:
— Кшыть на вас, бездельники!
Трапезарь стал выталкивать монахов из кельи, напоследок его и самого вытолкал игумен.
Оставшись один, игумен перекрестился, перекрестил Чурилу, сел рядом с ним на лавку, стал пытать его, не грешен ли, не сотворил ли чего, порочащего святую обитель.
— Да не грешен я, не грешен,— мотал головой Чурила.— Вот те крест, говорю, как на духу: чист я и перед богом и перед людьми.
Увидев слезы на его незрячих глазах, игумен смягчился, совсем уже по-отечески тепло сказал:
— Да уймись ты, дай-ка взгляну на очи.
Чурилу игумен любил, чтил его за книжность и за то, что навещали его в монастыре княжеские мужи: раз даже сам Всеволод приехал, переполошил монахов, долго беседовал с Чурилой в его келье, а уезжая, пожаловал две монеты. Другой бы монах закопал их в кубышке или пропил в миру, а этот отдал на святой храм для обновления почерневших и пооблупившихся икон. Нет, не жаден был Чурила, и мирских грехов за ним не водилось,— то, чем раньше славился, нынче не в счет. Было: бражничал он в миру, во многих драках и непристойных делах замечен был, но приласкал его князь, доверил летописание, освободив от прочих монастырских повинностей,— и преобразился Чурила. Он и помочь, ежели надо, не отказывался: то дров нарубит в лесу, то дорожки расчистит от снега...
Любил, любил игумен Чурилу, и надо же — такая беда.