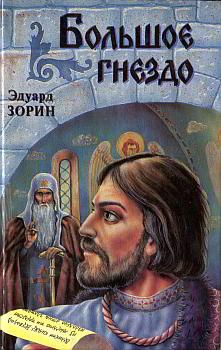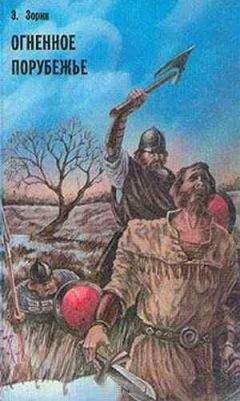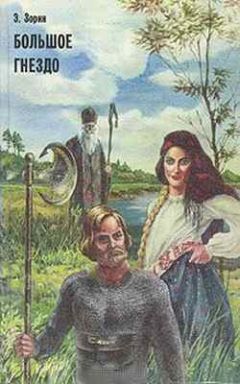Разговор с ним Рюрик начал издалека. Но пьяный Давыд, икая и ухмыляясь, никак не мог взять в толк, с чего бы так беспокоиться брату. Небось и сам раньше любил попировать, а нынче оставить дружину ради постной беседы и вовсе смешно.
— Не пойму я тебя, брате,— выслушав длинную речь Рюрика, сказал Давыд,— По моему разумению выходит, будто и не рад ты вовсе, что сел на Горе. Ежели боишься Святослава, уступи Киев мне.
— Язык говорит, а про что — голова не ведает,— оборвал его Рюрик.— Али позабыл, как ловил тебя Святослав на Днепре?
— Не дрозд я, чтобы лететь в его силки.
— А про то не знаешь, что сидишь на чужой ветке.
— Это как же? — встряхивая налитой хмелем головой, спросил Давыд.
— Ежели не поостережемся, не нынче, так завтра придет Святослав, спихнет нас с Горы — в степи уйдем к Кончаку?
— Святослав далече,— улыбнулся Давыд,— А дружина на тебя в обиде.
— Совсем тебе мед голову вскружил...
— На то он и мед.
— Взяли мы Киев, удержим ли?
Давыд поднялся с лавки, сладко потянулся. Не вовремя затеял с ним Рюрик свой разговор. Но брат подошел к нему вплотную, уперся настойчивым взглядом в его лицо, заговорил ласково, быстро, проглатывая слова:
— Единой мы крови с тобой, брате. И отступать нам друг от друга никак нельзя. С утра посылаю я гонцов за помощью к князьям луцким, Всеволоду и Ингварю, войско буду просить у Осмомысла, а тебя отпускаю в Смоленск к Роману. Без Романа Святослава нам ни за что не одолеть.
— Стар уж Роман, да и немочен...
— Войско даст.
— А ежели не даст?
— Знает Роман: и ему без нас в Смоленске не усидеть. Даст.
Давыд не любил Романа, редко встречался с ним, а встречаясь, дивился его мягкости. Много зла причинили брату смоляне, посмеиваясь над его набожностью. На старости лет окружил себя попами, с утра до ночи бьет поклоны перед иконами. Лучшие земли роздал монастырям. Жена его, Святославна, в доме хозяйка — не он. Сухая и скаредная баба.
Бывал Давыд у Романа в гостях, надивился вдоволь. Даже пира в честь приезда брата не справили, а уж из палат без жены — ни ногой. Всем заправляет в Смоленске Святославна: снаряжает дружинников, шлет гонцов, нос сует в каждый котел.
— Как хошь казни, не поеду я в Смоленск к Роману,— отводя глаза в сторону, проговорил Давыд.
— Не серчай на брата,— мягко упрекнул его Рюрик.— Старший он в нашем роду. Меня не послушается, Мстислава уж нет в живых. На тебя одного надежда.
Льстивые речи Рюрика поколебали твердость Давыда.
— Уговорил ты меня,— сказал он.— Только нынче уж боле не тревожь. Допирую я с дружиной, а там и в путь.
Прослезившись, Рюрик трижды облобызал его.
Но за полночь в ложнице, прижимаясь к мужу, Анна наполнила его новой тревогой.
Всегда спокойная и рассудительная, на этот раз она взволнованно и сбивчиво шептала:
— Страшно мне, ох как страшно. Не к добру оставил ты Белгород. Да и худо ли нам жилось?.. Неуютно на Горе, все чужое. Не верю я киянам. И Давыду не верю. Не поможет тебе Ярослав — у него, чай, и своих хватает забот. Рыскает сын его Владимир в чужих уделах, на Олега кует крамолу...
Рюрик молчал, уткнувшись лицом в подушку. Анна вздыхала.
— Все вы, бабы, прикипаете к своему гнезду,— сказал князь.
— А чем худо тебе было в Белгороде? Чем Киев лучше?..
— В Киеве я — старший князь.
— Старший-то князь за лесами...
— Ты Всеволода не прочь,— приподнялся на локте Рюрик, вглядываясь в мокрое от слез лицо жены.
— Ох, не к добру это все. Чует мое сердце, что не к добру.
— Накаркаешь...
— Сам на себя беду накликал.
Рюрик выпростал из-под одеяла руку, погладил жену по голове. Анна вздрогнула, отвернулась. Вздохнув, села на кровати.
— Недобрый сон мне вчера привиделся. Будто едем мы по полю, а Давыд впереди. Ты окликаешь его, а он не слышит. Солнце красным пожаром все опалило вокруг, дышать нечем, кони храпят, не хотят идти, земля дыбится, булькает и лопается, как каша в медянице...
Рюрик сел рядом с женой, поставив локти на колени, подпер ладонями подбородок.
— Не верь Давыду! — вдруг быстро прошептала Анна и зарыла лицо в подушках.
Рюрик встал, отошел к окну. За Днепром серел рассвет. Из гридницы еще доносились пьяные голоса. Внизу, у всхода, фыркали кони, на дворе, подложив под головы седла и попоны, лежали захмелевшие вои. На скамеечке, съежившись, дремал воротник.
Анна стонала и всхлипывала. Потом она затихла. Рюрик вернулся на цыпочках к постели, склонился над спящей женой, задумчиво опустился на лавку.
Так и просидел он до рассвета в исподнем, большой и обмякший, опустив между колен длинные худые руки.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
В знойные летние дни, когда палило солнце и разморенные люди неприкаянно бродили по улицам города в поисках спасительной тени, Мария выезжала в Суздаль.
Здесь был простор, над зелеными холмами дули привольные ветры, от берегов Нерли наносило запах созревающих трав. Лодия княгини, украшенная деревянным узорочьем, с высокой кормой и красными ветрилами, всегда стояла в затоне на Каменке — подле самого княжеского дворца. Вечерами, когда солнце склонялось к земле и по мягким зеленям стлались длинные тени, Мария в сопровождении дворовых девок отправлялась на прогулку.
Досада всегда была вместе с ней.
Кормщик подымал ветрила, легкий ветер вздувал их, и лодия ходко шла к устью Нерли. Обратно возвращались на веслах.
Иногда в Суздаль наведывался Всеволод с дружиной. Тогда в городе сразу становилось тесно, празднично и шумно. На воду спускались еще две лодии, дружинники, истосковавшиеся от безделья, садились на весла и устраивали на реке гонки, которые обычно заканчивались многодневным пиром. В полях за Каменкой жгли костры, прыгали через огонь, соскучившиеся по парням девки до утра водили хороводы.
На одном из таких хороводов и повстречал Досаду Кузьма Ратьшич. Не видел он ее с той поры, как привез во Владимир радостную весть о Всеволодовой победе на Влене.
После того Ратьшич был надолго оставлен князем в Переяславле, а когда вернулся, Досады во Владимире не застал — уехала она с княгиней Марией на лето в Суздаль.
Вскоре наведался в Суздаль и Ратьшич — наказал ему князь проведать чернеца Чурилу, узнать, как продвигается летописание. У Чурилы Кузьма не задержался, тем же днем примчался на княжий двор, но ни Досады, ни княгини в тереме не было. Тогда и поскакал он в поля, где горели уже костры и слышался девичий смех.
Княгиню заметил он еще издалека, а когда подъехал поближе и спрыгнул с коня, увидел и Досаду.
Мария сидела на скамейке, застланной красным трапезундским ковром, и веселилась, глядя на резвящихся вокруг костра молодиц; Досада стояла рядом — тоже веселая и румяная: или это костер бросал на ее лицо свои горячие отблески?
Оставив коня пастись в ложбинке, уже затянутой вечерней дымкой, Кузьма поднялся на пригорок, и Мария сразу признала его. Глаза ее заблестели, она даже привстала, надеясь увидеть и князя, но Ратьшич был один, и взгляд княгини наполнился грустью.
Кузьма приблизился к ней, поклонился и глухим от волнения голосом передал, как велено, поклон от Всеволода: князь-де жив-здоров, но приехать не может, потому что ждет известий из Новгорода.
— Садись, Кузьма, будешь моим гостем,— сказала Мария, указывая на лавку рядом с собой, но Кузьма остался стоять.
Досада заметила устремленный на нее настойчивый взгляд княжеского любимца. Она вспомнила Ратьшича (да и не забывала вовсе!), вспомнила вечер, когда прибыл он из Переяславля с доброй вестью, и почувствовала вдруг, как сами по себе щеки и шея ее наливаются жаром.