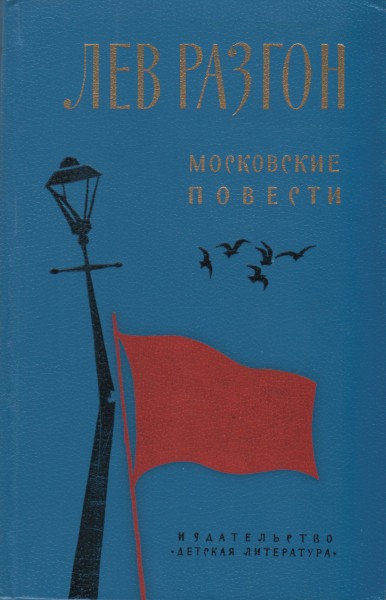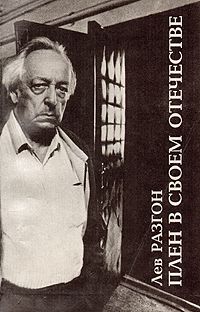ходу, прочитывал несколько строк, набросанных неразборчивой скорописью Вари. Обстоятельный отчет Блажко о том, что делается в обсерватории, откладывал и читал не торопясь на своей скамейке.
Отделаться от людей с газетами, конечно, было трудно. Просто невозможно. Были среди них знакомые — университетские коллеги, знакомые москвичи. Находились скучающие инициативные господа, которым не хватало собеседников. Независимо от того, какую газету держал в руках новый знакомец, Штернберг знал, с чего его собеседник начнет разговор. С Азефа. Все газеты были полны историей с разоблачением секретного сотрудника департамента полиции, который, оказывается, был членом Центрального комитета партии социалистов-революционеров, руководителем их боевой организации, занимался организацией убийств самых крупных сановников империи, а потом выдавал полиции участников.
— Понимаете, батенька, — начинал почтенный господин, только вчера познакомившийся со Штернбергом и сразу же называющий его батенькой, — у этих господ нет никаких нравственных норм! Состоять в революционной партии, руководить ею — и за деньги, и за немалые деньги, батенька, выдавать своих же товарищей по партии! Понимаете, какие это люди! Какие нравы у них!
— У кого это? — тихо переспросил Штернберг.
— Как у кого? У революционеров!
— Как странно мы понимаем с вами одни и те же сообщения. Насколько я уяснил из газетных статей, Азеф был вовсе не революционером, а секретным сотрудником департамента полиции, по заданию этого департамента вошедший в боевую организацию и выдававший его членов. Только в одном позапрошлом году по доносам Азефа было повешено семь человек — членов боевой организации. Так?
— Так...
— При чем же тут нравы революционеров? По логике вещей, речь может идти только о нравах департамента полиции и тех грязных личностей, которых полиция нанимает для грязной работы. Я весьма далек от политики и интересуюсь ею, вероятно, меньше вашего. Но я человек науки и не в состоянии отказаться от законов логики. Не вижу в деле этого негодяя ничего двусмысленного и непонятного...
— Нет-с, не могу согласиться с этакой странной логикой! Азеф был революционным социалистом, который предавал своих сопартийцев! Вот так, батенька, а не иначе могут толковать эту гнусную историю лояльные к обществу и правительству люди! Да‑с!
— Вы господина Столыпина таким считаете?
— Весьма странный вопрос!
— Так вот, хочу вам напомнить, что еще весною, кажется в феврале этого года, председатель совета министров Петр Аркадьевич Столыпин на заседании Государственной думы сказал, как мне помнится, буквально следующее: «Кто же был Азеф? Такой же сотрудник полиции, как и многие другие». Как мне кажется, ответ исчерпывающий, я вполне согласен с господином Столыпиным и полагаю, что бессмысленно нам продолжать этот беспредметный спор... Здесь все ясно.
С Азефом-то все ясно! Сложнее было в собственных делах. В Москве плохо, очень плохо. В организации провал за провалом, Коля Яковлев отбывает тюремное заключение. Режим, говорят, в тюрьмах ужасный!
А как с Варей? Из ее коротких и совершенно бессодержательных писем-записок ничего узнать нельзя, кроме того, что она на воле. Конечно, по теперешним временам и это уже не так мало.
Штернберг знал точно причину своего постоянного раздражения и смутной тоски. Он, готовый к выполнению любого партийного задания, в эту тяжкую для партии пору отдыхает на взморье, тупо смотрит на надоевшее ему тусклое море, слушает непрекращающийся женский и детский визг, разговаривает со скучными, ненужными, неинтересными собеседниками... А Коля сидит в тюрьме, Варя и ее товарищи ходят на явки, на секретные заседания, где их может ждать полицейская засада!
Штернберга мучила его оторванность от настоящей партийной работы. Но надо было смириться. Очевидно, от него требовалось соблюдение не только партийной дисциплины, но и самодисциплины. Надо было считать дни, когда закончится август и можно будет, наконец, возвратиться в Москву...
Москва встретила Штернберга нелетним оживлением и возбуждением. Слава богу, в доме на Пресне все было в порядке. Николай здоров, сидеть ему уже не так долго. Варя была оживленная, похудевшая, вся наполненная той жизнью, от которой он был отстранен. Несмотря на неоднократные аресты комитетчиков, организация московских большевиков была жива и работала.
Варвара рассказывала о множестве новостей из Питера, о приезде представителей центра, о разных новшествах в организации.
— Много времени сейчас уделяется легальным возможностям — на этот счет есть указание ЦК. Например, открыли в городе «Клуб общедоступных развлечений». Довольно много народу привлекает к себе. И среди этих общедоступных развлечений есть и такие, что охранка взвыла бы, если бы узнала!
— А если уже знает?
— Ах, этот психоз азефовщины! — вспылила Варвара. — Интересно, как ему поддаются, казалось бы, самые спокойные и уравновешенные люди! Мы — не эсеры, наша организация строится на совершенно иной основе. Чего бояться ночных теней! Больше света! Больше организованности! И ближе к рабочим!
Все это Штернберг знал. И думал о том же самом. Что это Варенька делает из него пугающегося интеллигента? Ему просто присущи качества ученого — тщательность и недоверчивость.
Ничего нельзя брать на веру! Все обязательно подлежит проверке и перепроверке!
Стремительно наступил и стремительно шел 1910 год. Много он значил в жизни Павла Карловича Штернберга. Определеннее стало все. И в его научной деятельности, где изучение гравитационной аномалии стало давать интересные результаты; и в партийной жизни, где его роль связного с заграничным центром становилась все более важной; и, наконец, в своей личной жизни. Исчезла двойственность, так его ранее мучившая. Варвара Яковлева была для него теперь не только самым близким партийным товарищем, но и самым близким и дорогим человеком. Этим летом он никуда из Москвы не уезжал, да и куда уезжать? В августе должен был выйти из крепости Николай!
Николай вернулся домой побледневший, похудевший, но все такой же бодрый, веселый, неутомимый. Поразил сестру и Штернберга тем, что, сидя в крепости, был в курсе большинства партийных новостей.
— Они, знаете, порядочные болваны — это тюремное начальство! Не знаю, как в централах, а у нас в камерах происходило постоянное перемещение арестантов. Очевидно, оглушительная их идея состоит в том, чтобы арестанты, долго сидящие вместе, не вошли в преступный сговор и не принялись изображать какого-нибудь графа Монте-Кристо — подкоп там или еще чего. Поэтому состав камеры постоянно обновлялся.
— А народ какой? — спрашивал Штернберг.
— Ну, всякий. Больше эсдеков. Есть и эсеры. Есть такие, кто ни за что ни про что попал. Сугубо беспартийные обыватели, втяпались случайно. Совершенно политически невежественные люди. Ну, у нас они быстро образовывались! Сначала как слушатели