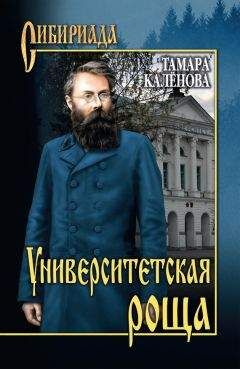Ознакомительная версия.
— Зачем же отдавать жизнь? — ласково усмехнулся Крылов, ему нравился пылкий юноша, и хотелось как-то его приободрить. — А полезным вы, милостивый государь, вполне можете быть. Доведите гербарий. Ежедневно занимайтесь наблюдениями над местной флорой. Ничего не пропускайте. В науке нет мелочей. Особенно для систематиков, флористов… В следующем году предполагается открытие Сибирского университета, можете и в Томск пожаловать. Буду рад вам от всего сердца.
— Благодарю вас! — Троеглазов порывисто пожал руку Крылова. — Да я за это время…
Глаза его загорелись надеждой, щеки порозовели.
Хлопнула внизу дверь. По лесенке раздались бойкие шаги, и в комнату заявился отец Севастьян. Ряса на боку, надета криво и наспех. Выветрившаяся бороденка всклокочена, скудные седенькие волосы на голове в торчок. Вид, в общем, никак не приличествующий ни сану, ни положению. Нос-пуговка подозрительно красноват. Глаза же, тронутые старческой голубизной, невинно безмятежны.
— Это господин Крылов, батюшка. Из Казани. Проездом в Томск. Мой учитель и весьма чтимый в научных кругах человек, — с гордостью отрекомендовал гостя Григорий.
Крылов поднялся навстречу хозяину дома, поздоровался.
— Сиди, мил человек, — громко заговорил отец Севастьян. — Я тебя и так благословлю.
Он быстро, как бы между прочим, осенил крестом гостя, сына и, шумно втянув блестевший пуговкой чайный дух, проворно устроился за столом.
— О чем беседу ведете, господа? — повертел головой в одну и другую сторону.
— О травах, папаша, — ответил Григорий. — Вам неинтересный материал.
— Верно! — не обиделся отец. — Не смыслю в науках, слава те и прости мя, Господи! Вот сейчас баб заставил к дороге подаяние снесть — и премного доволен. С меня и этого хватит.
— Этапным? — догадался Крылов.
— Им, батюшка, им. Село наше, Овчинниково, в стороне от тракта стоит. Этапные сюда не заходят. Маршрутом не велено. Мимо идут, к Крещеной слободе. А там татары живут. Христианам ни в жисть не подадут. Вот и выходит, двое суток, а то и все трое каторжные напустую бредут. В иные годы, по весне особливо, много их мерло вдоль всего тракта… Ну и надумал я: к дороге выносить христово подаяние. Как заслышу за лесом Лазаря, бегу баб ловить. Прячутся, антихристово семя! Оне ведь тоже вухи имеют… Вот ты скажи, мил человек, отчего такая закономерция получается? Как человек сытнее, так жаднее.
От скупости зубы смерзаются, что ли?
— Не знаю, отец Севастьян, — ответил Крылов. — Сам иной раз голову ломаю. Расскажите лучше, что за деревня ваша? Необычной показалась. Или я ошибаюсь?
— Не-ет, — потряс бороденкой священник. — В самый корень зришь, сын мой.
И он с жаром принялся описывать гостю здешнее житье-бытье. Выяснилось, что Овчинниково — раскольничье поселение. Основал его беглый солдат Овчинников, в веру ударившийся после того, как на него снизошло. На грозовом небе огненные божьи слова прочитал: «Волну и млеко отъ стадъ емлете, а об овцех не пекётесь». Самое чудо заключалось в том, что солдат был неграмотен. А тут прочитал. И принялся беглый воин пекчися об овцах. Организовал секту, впал в раскол.
— Что есть раскол, надеюсь, вы, православные господа, разумеете? — важным тоном вопросил отец Севастьян. — Вот, к примеру, хорошая убоистая дорога. Тракт. Большак либо шлях. Все едино. Добрым людям идти удобно, широко, никто никого не пихает. Однако же непременно и обязательно найдутся такие, коим покажется, что бресть по козьей тропке короче да своеобычнее. Вот и отбиваются с большака, рассеиваются по сторонам, а иные и заплутаются и сгинут в дьявольских зарослях… Так и в религии. Православие и раскол всегда рука об руку шли, вместе.
— В чем же состояло новшество беглого солдата Овчинникова? Слыхал я, секты в Сибири, будто опенки, кустятся, — сказал Крылов, с интересом слушая священника, на которого говорун напал.
— А в том и состояло, что никакого новшества! — отец Севастьян торжествующе поглядел на гостя, и тот вновь подивился детской безмятежности и невинности его взора. — Ни-ка-ко-го! Где дрова рубят, там и щепки валяются. Де раскол, там и что-то среднее неизбежно и обязательно образуется. Ни то, ни се. А если потверже сказать, и то, и се…
О секте Овчинникова отец Севастьян говорил с каким-то странным для его священнического сана удовольствием, словно бы даже выхваляя то разумное, что в ней имелось.
Во-первых, трудолюбие. Овчинниковцы на работу звери. Лютеют прямо-таки, когда за плуг-рукопашку, или за топор, или за косу-горбушу берутся. Баб себе под стать выискивают, трехжильных, рукастых. Чтоб, значит, за троих ломила: и в поле, и в доме, и в молельной часовне могла в плясун-день до утра на ногах устоять.
Во-вторых, скромность. Паневы, сарафаны, платки, азямы — все только темного цвета. На чужого мужика или бабу ни взгляда, ни полвзгляда. За непотребство в этих делах тотчас вон из общины.
На стороне поглядывай, а в секте не смей.
В-третьих, обособленность. Никакого чужого ни в дом, ни на порог, ни за стол. А сами, ежели оскоромились, где к чужому прикоснулись, сей же час должны мыться в бане. Коли нет бани либо в дороге несподручно, хоть в реку полезай, хоть в лужу, но от греха очистись. Случись все же обмирщиться: с православными поесть, в одной церкви постоять — голодом себя наказуют. Сильно обмирщился — десять ден поголодай, не сильно — и два-три хватит. Картошку, или, как в Сибири говорят, «яблочку», не садят. Грех. Сатанинская овощь.
Не зря-де еще совсем недавно, при царе Николае I, по всей России картофельные бунты сотворялись… Чай не пьют: на трех Соборах проклят. Кофе — тоже: на семи Соборах запрещен. Вместо чая бадан либо посошок узлоколенный заваривают.
— А в-четвертых, оне выдумали, что хороша и богоугодна лишь та молитва, к словам которой надо прибавлять ох-охо-хо, — закончил отец Севастьян загибать грязные короткие пальцы. — Прочии секты над ними по всёй Сибири смеются, охохонцами кличут.
— Весьма любопытно, — вставил с улыбкой Крылов. — Однако ж в Сибири всё какое-то необычное.
— Совершенно справедливо изволили заметить! — подхватил отец Севастьян. — Вот и я о том же твержу: всё необычное! Рази можно ко всем нечесаным с одним гребнем подступать?! Столь много запрещений на старообрядцев выходит, таких крутых и резких, что я своих овчинниковцев давно должон был бы в проруби перетопить. А кто пахать станет? Кто рыбу ловить? Детей на свет нарождать? Эдак-то с запрещениями да с сожжениями земля обезлюдеет. Вот я, грешник великий, и сужу… Не велено выносить померших раскольников на их собственные кладбища — а я не воспрещаю. Записываю браки в свою книгу, хоть и не венчаю. Не неволю. Мало ли чего. Ну, повесили они на своем молельном доме чугунные билы по углам — а я не вижу! Зато оне церковку соорудили. Общинный дом двохэтажный построили…
— Винцом угощают, — вставил укоризну в речь расхваставшегося своей веротерпимостью отца Григорий.
— А и винцом! — строптиво подтвердил тот. — Перед богом мне одному ответ держать, никому иному. Меня Бог поймет. Я хоть так, да верую в Господа! А вот ты…
Спор готов был разгореться не на шутку, но Крылов сказал примирительно:
— Насколько мне известно, у верующих и неверующих есть общие заповеди. Одна из них: терпимость. Разумеется, при условии, что терпимость одного будет равна терпимости другого. Не так ли?
— Истинно так, — обрадовался отец Севастьян. — Если бы проповедники ото всего хоронились, как того требует сын мой, они не смогли бы указывать прихожанам путь к праведности. Взять винцо.
Оно согласует несогласованных, превозмогает непревозмогаемое, радует безрадостных.
— Вино скотинит и зверит человека. Пьянство — это добровольное безумие, — возразил Григорий. — Так говорят мудрецы!
Отец не обратил на его слова никакого внимания. Он тяжело задумался, потом доверительно опустил голос:
— Я вижу, мил человек, сердце у тебя внимательное. А потому прими совет: не трогай обоз ни темным утром, ни светлым вечером. Дождись других путешественников. Так-то оно верней: при православной церкви побыть. Места у нас неспокойные, всякое бывает.
— И правда, Порфирий Никитич, задержитесь! — обрадовался Григорий. — Я вам многое имею показать.
— Спасибо, голубчик, — улыбнулся его порыву Крылов. — Рад бы, да не позволяют дела.
Слова отца Севастьяна встревожили его. В них прозвучало нечто большее, чем предостережение.
— Ничего. Люди в обозе надежные. Я скажу им, — вслух подумал Крылов.
— Скажи, — кротко согласился отец Севастьян.
— Спасибо за совет.
Крылов встал, показывая, что вынужден откланяться. Час поздний. Рад был знакомству.
— Я провожу вас, — стремительно поднялся Григорий.
Некоторое время Крылов и Троеглазов шли молча. Оба несознательно замедляли шаг. Было чего-то жаль, казалось, так много еще недоговоренного…
Ознакомительная версия.