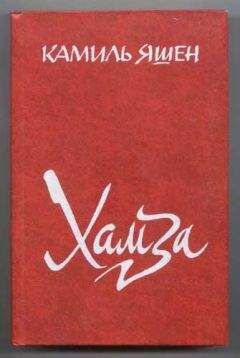Девочка, задремавшая было на руках бабушки, проснулась.
– Спи, спи, моя крошечка, уже ночь… Баю-бай!..
Но девочке, очевидно, не хотелось спать. Она повернула головку и, увидев знакомую пеструю кофту, потянулась к ней.
– К мамке захотела, ах ты стрекоза! Все к мамке да к мамке, а бабушка чужая, что ли?
Девочка слушала и улыбалась, но ручонки ее по-прежнему тянулись к матери.
– Возьми ее, Марфа, она у тебя быстрее заснет, а Машку в коровник я сама запру. Да за печкой последи, чтобы пироги не подгорели. Игнаша-то весь в отца, чуть подгорелое – в рот не возьмет. Отец, бывало, чернее тучи ходил, если на столе замечал подгорелый пирог. Аккуратность любил.
Старуха набросила на голову шаль и вышла в сенцы.
Марфе шел тридцатый год. Ее муж Игнат на крестьянском сходе в феврале был избран председателем поселкового Совдепа, а в марте тот же сход послал его депутатом на областной съезд. На съезде его избрали членом исполнительного комитета. Подходила к концу вторая неделя, как он уехал в город. Дома беспокоились, все глаза проглядели, поджидая, а он все не возвращался. «Неужели забыл нас? – думала Марфа. – Лучше бы его не выбирали никуда, жил бы себе и жил спокойно, так нет… Что я сделаю одна со старухой да с ребенком?.. Скоро пахать надо, а там сенокос… А Песковы-то и Калашниковы – словно озверели. Как они давеча смотрели на меня?.. Злятся на Игната, что налогами большими обложил. Ну и что ж, у вас есть чем платить, уплатите… А Остап-то Песков что вчера говорил: «Как поживаем, комиссарша Быканиха?..» Затевают что-то они, глаза волчьи… Скорее бы уж приезжал, что ли!..»
Она положила девочку в люльку и подошла к печке. Пламя осветило полное красивое лицо Марфы. Она взяла кочергу и стала разгребать угли. До слуха донеслись какие-то непривычные гулкие звуки. Марфа не поняла, то ли это кочерга тарахтела о раскаленные кирпичи, то ли что-то другое. Она притихла, вслушиваясь. Где-то за селом глухо ухнуло, и еле слышно задребезжали стекла. Марфа торопливо подбежала к окну и отдернула шторку – на улице ни души, тихо, темно. «Может, стрелял кто?» Если бы Марфа в эту минуту была на улице, она услышала бы шумный говор людей, доносившийся из оврага, выкрики и удары плеток.
Выстрелы больше не повторялись.
В сенцах опять заскрипели половицы, это торопливо входила старуха. Она шла и разговаривала сама с собой:
– Надоели холода… Когда же, в конце концов, наступит тепло? Опять подул ветер, да такой холодный, ажно за нос и щеки щиплет. Залютуют морозы, но все равно зиме теперь недолго царствовать. – Старуха вошла в комнату. – Не беспокойся, Марфушенька, Машку я загнала. И соломки свежей подстелила – отелится она нынче ночью. Посмотрела я сейчас на нее – вся в мать свою, вся в Субботку. Та, бывало, точь-в-точь так: как телиться, так к воротам. А ворота сама открывала, рогами… Подденет засов и выходит на улицу. И Машка норовила открыть, хорошо, что мы вовремя спохватились, а то тоже бы ушла…
– Ведь на улице стреляли, разве ты не слышала?
– Стреляли?.. Не слышала, милая. Да хоть бы и из пушек палили, все одно не услышала бы. Уши-то у меня закутаны, видишь. Завязала их, чтобы не простудить. Да, так про Машку… Ушла бы за ворота, наделали бы мы с тобой делов! Ветер лютый, так под ноги и подкашивает, где бы мы ее искали в такой мороз? Да и теленок замерз бы… С Субботкой у нас однажды такой случай был. Недоглядели, ушла она со двора, и с концом, а тоже вот-вот отелиться должна была. Искали и ночью и днем – нет нигде. Игнаша все лощинки, все овражки излазил вдоль и поперек, с ног сбился, а Субботки нет. Я по берегу Яика искала, почти до другой станицы доходила и тоже не нашла. Мы уж и в табуне смотрели, и под каждый кустик заглядывали, ровно как в землю провалилась. Полтора суток мучились, да так ни с чем и вернулись домой. Загоревали, грешным делом стали подумывать, не увел ли кто нашу Субботку?.. А случилось это как раз за неделю до Ивана Купалы. Стояли теплые дни…
– Так и не нашли? – спросила невестка, чтобы прервать некстати начавшийся длинный рассказ свекрови. Но это не так-то просто сделать, раз старуха начала, она обязательно доскажет все, что хотела.
– Ты погоди, нс спеши, ведь Субботка как раз телиться должна была в ту ночь…
– И отелилась?..
– Отелилась.
– Сбросила, поди, телка где-нибудь в овраге…
– Ох, какая ты умная! Курица и та над цыплятами дрожит, покуда не выходит, а ты хотела, чтобы корова бросила своего телка. Скотина – она, что человек, а может, еще и пуще за свое чадо трясется. Вот как оно, милая. Корова своего телка за пять верст найдет. Через полтора суток объявилась наша Субботка, вечером с табуном пришла домой. Пастухом у нас тогда дед Василь был. Подзывает меня к воротам и говорит: «Анастасия Васильевна, корова твоя, наверное, в роще отелилась, потому как в обед гляжу: идет из кустов, покачивается… А брюхо-то под ребра подтянуло. Точно отелилась. Телка-то, поди, в кустах спрятала, от ревности, по своему коровьему разумению. Это у них бывает так, прячут. Идем завтра со мной на луг и покараулим: как Субботка отколется от стада, прямо за ней иди, да только не спугни смотри, она и приведет тебя прямо к телку…» – «Ладно, – говорю ему, – обязательно приду». Дед Василь ушел, а я к Субботке – и впрямь бока у нее впалые, вымя потрогала – пустое. Видать, телок-то все высосал. «Субботка, говорю, где ж ты бросила своего теленочка?..» А она как замычит, будто понимает все. Ходит по двору, словно ищет что-то, и мычит, да жалобно так. Закрыла я ворота, засов веревкой привязала и ушла в избу. Ночью слышу – ворота скрипят. Выбегаю: Субботка рогами поддела засов и норовит сорвать его. А он не поддается, привязан крепко. До самого утра не смыкала я глаз, все следила за ней, чтобы не ушла, случаем. На зорьке отвела в табун. И что ты думаешь, Марфуша, как только дед Василь выгнал табун на луг, Субботка помычала, помычала и прямо к роще… Я за ней… Игнашку-то не будила, пусть, думаю, поспит, сама справлюсь. Мешок с собой прихватила. Иду, значит, следом за Субботкой, еле поспеваю – торопится она, торопится. Почти уж бегом бегу, чтобы из виду не потерять. Спустилась Субботка к реке, помотала головой – и к даче атамана… И так она несколько раз: то к реке, то к даче, то к реке, то к даче, следы, значит, запутывала. Скотина, а соображает. Потом все-таки пошла на дачу. Тут, в кустах, я едва не потеряла ее, – несется как ветер, только спина да рога мелькают. Выбежала на полянку, живот поджала да как замычит, жалобно, призывно, вроде бы и голос-то не ее. Гляжу: из травы выскакивает теленок. Маленький, ножонки тоненькие, будто хворостинки, а самого так и качает из стороны в сторону. Не к матери он пошел, а в другую сторону… Шел, шел – да как взбрыкнет и пустился вскачь. Субботка за ним и мычит. Остановился телок, прислушался – мать ли?.. И – раз Субботке под ноги. Залез, и не видать его, только слышно, как чмокает… Вот она какая у скотины любовь к своему чаду – телиться подальше от людей ушла, да и показывать телка-то не хотела, покуда не окрепнет, а ты: «Сбросила…» Кабы сбросила, не было бы у нас Машки.
– Я же никогда об этом не слышала… кажется, кто-то к воротам подъехал!.. – насторожилась Марфа.
Она кинулась к окну и, прижавшись лицом к стеклу, стала всматриваться в ночную темень.
– Рыжик у ворот, а Игната что-то не видать, – торопливо проговорила невестка и так, без платка, бросилась к дверям.
– Шаль-то хоть накинь, простынешь! – крикнула ей вслед старуха. – Игнат-то прозяб, поди, с дороги, коня помогла бы распрячь да завести в конюшню…
Но Марфа была уже за дверями.
– Разве послушается когда-нибудь, – ворчала старуха. – Такой ветер на улице, а она с открытой головой! Платка, что ли, нету аль шубенки… – Она подошла к печи, отодвинула заслонку и стала смотреть, хорошо ли зарумянились пироги.
Подбежав к воротам, Марфа не сразу отодвинула засов. Она сначала через плетень выглянула на улицу – у ворот действительно стоял Рыжик, помахивая головой и позвякивая удилами. Увидев Марфу, он потянулся к ней мордой и жалобно заржал. Марфа искала глазами Игната: «Может, пешком шел, приотстал…» Но на улице никого не было. «Может, в Совдеп зашел?.. Или к Ивану Андреевичу?.. – Где же это он?..» В соседней избе, где жил шорник Иван Андреевич, горел свет. Марфа подбежала к окну и, приподнявшись на носках, заглянула в комнату. Ветер трепал ее волосы, леденил щеки, поднимал подол платья, но она ничего не замечала – думала только об одном: «Где Игнат и что с ним?..» Предчувствие чего-то недоброго охватило ее.
В избе соседа тускло горела лампа. Иван Андреевич сидел на маленьком стульчике и сучил дратву. Игната в комнате не было.
Марфа вернулась к воротам и завела Рыжика во двор. «Придет…» – мысленно успокаивала она себя, распрягая потного коня. И только тут заметила, что вожжи волочились по земле, концы их были покрыты ледяной коркой. Это еще больше встревожило ее. Она отвела Рыжика под навес и, вернувшись к саням, достала из-под куги коврик и понесла его в дом.