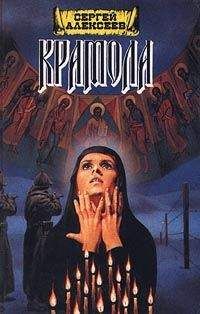Поп ударил посохом, и закачался на вые тяжелый крест.
— Я не уподоблялся богу, — промолвил Игорь. — Но страданий жаждал. Абы за позор свой обиду заронить в сердцах князей. И коли искушал на грех, то токмо самого себя!
— А гусляра? Коего ты просил восславить твои муки? Евангелистом сделать захотел?
— Гусляр тот нищий духом. Какой же он апостол?
— Ты ныне куешь крамолу против церкви! — объявил священник. — Мыслил ты, приняв мучения в полоне, явиться в Русь святым? И абы братия бо поклонялась и чтила богом? Не быть тому! По Русским землям тебя встретят батогами! Ты тешишься наполнить сердце гневом за пораженье русичей? А гнев тот супротив тебя оборотится! И первым бросит камень Святослав!.. Да полно! Останешься в полоне. Открывшему ворота в Русь выкупа не будет!
— Ты сказывал мне, что промыслы господни неизвестны человеку, — князь Игорь распрямился и вровень встал с попом. — Откуда ж ведомо тебе, как встретят меня в Русских землях? Кто первый камень бросит? Откуда знать молву, что по Руси пойдет?.. Нет, поп! Коль сие тебе известно — значит, исходит не от бога! А от тебя! И с кем ты вкупе!
— От меня, — признался поп. — Я служитель, посему ереси противу веры не позволю! Егда свеча горит и светит — благо. Но, опрокинувшись, грозит пожаром и бедствием великим. Не стану ожидать, покуда кров мой загорится!
— Свечу потушишь?.. Но придет ведь тьма!
— Абы Русь от тьмы сберечь, довольно света божьего!
— Нет, поп! Свет божий токмо днем! А кто же в сумерках посветит? Кто средь глубокой ночи воспылает, еже бы путь озарить? Человек! Че-ло-век!.. Днем, напитавшись божьим светом, светить ему во тьме!
Поп замахал руками:
— Светоносен токмо всевышний! А человека же он создал мелкой тварью. Червем на земле!
— Червя он создал червем, — не согласился Игорь. — Человека же — по своему образу и подобию Ты сам клевещешь!
— Анафеме тебя предам! — закричал поп. — Тебя забудут на Руси! И еже ты воротишься когда — потомки знать не будут, где твоя могила! Я лишу тебя пути!
— Лишишь меня пути?
— Покусившемуся на образ божий — да быть ему изгнанником! Изгоем!
— Благодарю, — промолвил Игорь. — И сей венец приму покорно. Ибо он Руси послужит!
И вдруг увидел Игорь очи сына, горящие от слез.
— Отец святый! — взмолился княжич. — Возьми с собою в Русь! Возьми!
— Сын?! — и князь осел, сломился. — Ты меня бросаешь?
— Прости, отец…
— Се божья кара! — возрадовался поп. — Не токмо братия, но чада тебя покинут. Все отвернутся от тебя!.. А ты, сын мой, — он погладил княжичу власы, — и впрямь на Русь собрался?
— Да, святый отче, возьми с собой!
— Зачем? Чтоб выкупить отца?
Княжич замолчал, потупил очи. Поп усмехнулся.
— Я смогу взять тебя, раб божий, еже ты согласен постриг принять. И в монастырь уйти.
— Приму постриг, — промолвил княжич.
— Что творишь ты — ведаешь ли? — князь в очи сыну заглянул и позрел такую тоску, как если бы его в рабство уводили на чужбину.
— Ведаю, отец мой…
Поп крест достал и княжичу поднес:
— Клянись, что не станешь выкупать отца от половцев. И крест целуй!
— Се долг святой, сыновний! — воскликнул Игорь. — Не лишай же долга!
— Прости меня, отец, — княжич приложился ко кресту. — Клянусь, не стану выкупать отца.
— Добро, — поп спрятал крест, оправил рясу. — Ночь бдеть в молитвах будешь, а поутру обряд свершим. И тронемся в дорогу.
Князь Игорь, стоя на коленях, гнул выю; голова к земле клонилась. А поп торжествовал победу! Он поверг его! И над поверженным вдруг милость проявил.
— Отрекись от замыслов своих! Пред братией покайся и пред богом. И на кресте клянись!
— Не отрекусь, — промолвил князь и встал. И, руки к небу вздев, воскликнул: — Не отрекусь!
Всю ночь Олег стоял пред образами, а Игорь — за его спиной — прощался…
Лишь на рассвете, уставший от молитв и дум, Олег к отцу оборотился и в очи ему глянул.
— Аще есть время, — напомнил князь. — Аще не поздно отказаться. Потом пути назад не будет.
— Служа богам, — мне старец сказывал, — ты служишь людям. Да будет так. Аминь.
— Ну что ж, ступай, — позволил Игорь. — И пой, коль голос будет! Пой, кем бы ты ни был — чернецом, боярином иль волхвом — пой! И Русь услышит…
Едва над степью встало солнце — шатер наполнился багровым светом и стены запылали. С молитвой на устах поп ножницы достал…
Князь Игорь смежил веки, отвернулся. Но сын вдруг крикнул:
— Позри, отец!
И он позрел. Пряди волос светились в солнце, но, тронутые лезвиями ножниц, мертвели на глазах и осыпались наземь. Змеей шипело безжалостное, неумолимое железо…
Все кончено! Пред князем стоял монах с котомкой за плечами. Чужое платье, лик чужой…
Они друг другу поклонились и встретились на миг очами. И ничего друг другу не сказали.
«Пой, и Русь услышит», — пожелал отец.
«Я голоса не пожалею!» — поклялся сын…
Потом он волосы собрал сыновьи, все до единого. Дышал на них, и в дланях грел, и к лону прижимал — не оживали.
И, выйдя из шатра под небо в низких тучах, взмахнул рукой, как сеятель, и распустил власы по ветру. Их понесло, взметнуло к небу, затем к земле склонило и — рассеяло по следу.
Когда поземка улеглась, забившись в травы, пронзило молнией ум и сердце застонало. Гонимый страстью и себя не помня, он побежал за сыном, но сторожа схватили, заломили руки, повергнув на траву.
— Как ныне твое имя? — кричал он в степь. — Имя как твое?!
А лик обласкивал седой ковыль, и волны на Каяле рокотали…
На утро была назначена экзекуция. Вчера выпороли купцов, показали остальным, что и в этом деле на первом месте — справедливость и равноправие, за которые ратуют красные. Сегодня мужики сами должны, спустив штаны, укладываться под розги… Нароков нервничал: что же теперь делать? Отменять нельзя, сразу станет ясно, о чем толковал с ним монах. И хозяин избы наверняка слышал, под дверью стоял… Где сейчас монах? Найти его!
Нароков позвал денщика, велел разыскать и привести монаха. И пока денщик бегал, князь метался по избе. Он уже готов был силой заставить того принять исповедь, готов был выплеснуть всю боль, весь страх, что накопились в душе. Сказать, как он заставляет себя не думать, что творит, не вспоминать, как дергается и вытягивается потом человек на виселице, а он, князь, внутренне тоже дергается и вытягивается, словно вешают его. И рот открывается точно так же, и язык вываливается наружу… Такое нельзя забыть! Вот почему ночью он, князь, может спать только с женщиной, да и то недолго — пока сон после любви уносит его куда-то прочь от земного. А затем все возвращается, и он, сонный, опять дергается, и хрипит, и открывает рот. Женщины боятся и убегают, и он не просит их остаться, потому что это можно посчитать за проявление слабости…
Исповедаться только ему! Иначе ни перед кем больше не повернется язык! Исповедаться — и тайно пустить в расход. Иначе монах ведь и, в самом деле уничтожит его, если будет жив.
Вошел денщик, замялся у порога, растирая замерзшие руки.
— Что?!
— Зарубили его, ваше сиятельство. Инородцы обозлились… ну и…
Несколько минут князь стоял, сжав голову руками и едва сдерживая мышечную судорогу, коробящую тело. Затем спросил тихо:
— Кто зарубил?
— Сказывают, Андропов, со второй сотни.
— Ладно, иди, — бросил Нароков…
Рано утром, едва дымы над Усть-Повоем взбуравили морозное небо, он вышел на улицу и направился к церкви. Во дворах уже суетились казаки, запрягали и седлали коней. С рассветом всему населению велено было снова сойтись на площади. Скамейки не уносили, разве что по-хозяйски составили их у церковной ограды. Несмотря на ранний час, возле них толклись несколько стариков, а один и вовсе пришел с маленькой скамеечкой, которыми пользуются хозяйки, когда доят коров. Нароков вначале прошел мимо, затем вернулся к старикам. Те притихли, разглядывая его по деревенской привычке неприкрыто и откровенно.
— Что собрались? — спросил он. — Поглядеть захотели?
— Вчерась-то мы уж посмотрели, — откликнулся старик на скамеечке. — А нынче сами пришли. Давеча есаул сказывал, всех пороть будут, подушно.
— Ты кто будешь-то, батюшка? — спросил другой старик — с тяжелой клюкой. — Лицом вроде русский… Ежели ты начальник над басурманами, то уж сделай милость — прикажи нас потемну выпороть. Днем-то нам не с руки, молодые увидят, стыдно.
— Нас и привязывать-то нужды нет, — добавил тот, что сидел на скамеечке. — Сами ляжем. И кричать не станем, стерпим уж.
Нароков стиснул зубы и ушел в темноту.
Ему хотелось, чтобы вообще не рассветало сегодня. Он боялся, что при свете увидят его лицо и всем станет ясно, что он — слабый, беспомощный человек, как и эти выживающие из ума старики.
Он почти столкнулся с маленьким, толстым казаком, несшим охапку розог, остановил его, вспомнил фамилию.