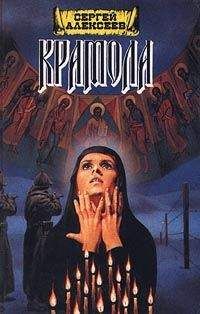— Верни ему доспехи, — повелел Кончак. — И меч вверни. И содержи, как подобает князя содержать. Он друг мне старый.
— Я не приму свой меч из рук твоих, — промолвил Игорь.
— Послушай, князь! Неужто ты забыл, как мы единой ратью ходили к Киеву?
Горячий конь под Кончаком копытил землю.
— Я помню Чарторыя. И лодию, в коей мы плыли, помню.
— Что ж на меня пошел ты, князь? Я бы земель твоих не тронул.
— Ты враг не токмо мне, — князь Игорь вскинул очи. — Ты враг Руси!
— С каких же пор ты стал тревожиться за Русь? — Кончак дивился. — Иль сел на Киевский престол? Иль молодость взыграла? Чести и славы жаждал?
— Искал с тобой сраженья, — мрачно бросил Игорь.
Кончак, переклонившись через луку, засмеялся, смахнул слезу.
— Нашел?.. Седло кощеево нашел! А лучше б заключили мир. Если перед братией неловко со мной дружить, могли бы тайный сотворить союз, как с твоим стрыем Ярославом. Твоих земель бы я не тронул, а ты бы не мешал мне за добычею на Русь ходить.
— Уж лучше я кощеем буду, нежели союзником твоим!
Кончак развеселился, и свита засмеялась.
— А мы с тобою, князь, давно в союзе! Повязал нас Чарторый, как ныне с сыном ты повязан!.. Но хочешь — отпущу? Оружие верну, людей, какие есть? И провожу к Донцу?
— Нет, не приму я милости твоей.
Оставив свиту, Кончак приблизился вплотную и глянул, щуря глаз:
— Ты что замыслил, князь? Какую думу тешишь в голове? Неужто ныне на Руси князья взгордились так, что милость не приемлют?.. Признайся же, кощей! Иль я избавлю тебя от тайных дум. Вкупе с головой!
— Тебя сгубить замыслил! — признался князь. — Ты привел меня на брег Каялы, но сам в ней и истопнешь.
Кончак смеялся долго, и воины его смеялись, качаясь в седлах, ровно в зыбках. Веселье разлилось на поле бранном.
— Ты, князь, летами молод, да стар умом! — сквозь смех кричал Кончак. — Из ума уж выжил! Возьми — что же сидишь ты? Возьми и утопи! — И вдруг, веселье оборвавши, промолвил холодно и зло: — Союз наш жив. Ты мне открыл ворота! На Русь пойду!
— Иди, — едва промолвил Игорь.
Полая вода Каялы бурлила, мыла берега. Сквозь муть и соль воды на дне белели кости…
Позор…
Глубока река Каяла, и брода нет.
Что ныне на Руси? Есть ли кому печаловать о поражении? Содрогнулась ли братия, услышав о позоре?
Кончак ушел на Русь и зорит города…
Раздумьями терзаемый, князь обращался к небу, но в землях Половецких оно казалось мертвым, и глас его тонул. Он слушал землю, но на берегу Каялы молчала и земля. Лишь струи тихо жалились, скорбили омуты глубокие да горе грохотало на камнях. А сердце билось в лоне, как в колоколе, но его молва едва касалась слуха…
Сомнения одолевали князя. С покорностью склоняясь пред судьбою, повинуясь року, хотел он Веры! Что труд твой не напрасен и что политая кровью степь родит плоды, и муки помогут отчине единство обрести!
Если нет, то зерна, брошенные в землю, мертвы останутся и прорастут грехом великим в собственной душе. Грехом пред братией и Русью!
В кощеевом шатре средь половецких веж лежал он вниз лицом, как мертвый. Гнила нетронутая пища, вода в пиале высыхала. Грызла руку зачервивевшая рана, но боль ее тонула в боли сердца и казалась сладкой.
Намедни он позрел, как продают рабов. Бояр его, дружинников плененных, повязанных за выи, поставили купцам, как ставят на продажу скот. Позванивая златом, заморские купцы товар смотрели, считали зубы, раны и лета. И цену назначали малую…
Потом их уводили на чужбину. Но прежде витязи прощались с князем. Им бы плевать в него, палить презренным взглядом и проклинать — они же кланялись ему по-русски, до земли. Тяжелая камча гуляла по их спинам, сквозь белые рубахи рубцы кровавые вспухали — они же кланялись! И, связанные, оставались верными ему. И Игорь кланялся и мысленно просил прощения, прощался навсегда.
О небо! Если все напрасно — позор тебе!
В час раздумий тяжких в шатер вошел Олег, присел у изголовья.
— Худые вести, отче, — промолвил он. — Владимир, брат мой, Кончаковну посватал. Кончак ее отдаст.
— А худо ли сие?
— Худо… Тебя сомненья одолели, отче. Гони их от себя!.. А Владимир… Для Руси сия женитьба не послужит и мир не принесет. Со змеем лучше не родниться.
— Ты прав, сын мой, — помедлил Игорь и спросил. — Она красна ли?
— Красна…
— Дай бог, пускай живет!.. Что есть еще на белом свете?
— Гусляр пришел и, русичей собрав, поет, — поведал княжич. — Позвать его?
— Не время тешить слух. И душу баловать не время.
— Не бальства ради я хотел позвать, — признался сын. — Поведай гусляру о нашем пораженье. Позор, егда его позрят. Отай же нет позора!.. Поведай о страданиях своих, о муках горьких, о реке Каяле!.. И пусть же сей гусляр пойдет на Русь!
— Ты осмомысленный, сын мой! — князь оживился. — Я узнаю в тебе глас вещей матери твоей, моей жены… Зови! Зови же!
Гусляр был молод и красен ликом: седина едва виски посеребрили. Но, истощенный, статью сдал, и рубище висело на плечах.
— Откуда ты, певец, каких земель? И далеко ли путь свой держишь? — князь Игорь усадил его в шатре, подал кумыс.
— Я, князь, гусляр опальный, — и чашу осушил. — Меня изгнали.
— Опальный? — Игорь взволновался. — Ты интересен мне. Гусляр опальный ныне на Руси — сказитель правды. Скажи, за что изгнали и откуда?
— В Тмутаракани был я, да не по нраву попам пришелся, — певец тряхнул гуслями — серебряные колокольцы зазвенели. — Еретиком окликали и, науськав народ, камнями забросали. А сам я родом Греческой земли, но гречанином не был. Родители мои привезены были бог весть откуда и в рабство проданы. Кргда подрос — обучен был игре на арфе. Но прослышал, на Руси нет рабства, а песни слушать больно любят. И гуслярам житье-раздолье. Сел на корабль и приплыл… Теперь же я изгнанник. Иду сквозь половцев на Русь, ищу хозяина, который бы пригрел несчастного изгоя.
— Добро, гусляр, — растрогался князь Игорь. — Какие песни ты поешь? Какие сказы знаешь?
— Я сказы о народе своем сказывал, — признался он. — О муках, кои терпит он то в рабстве, то в изгнании. О вере чистой пел. Русь слушала; разинув рты, жалели… Попы анафемой грозились. И вот изгнали, — взгрустнул певец и снова вдохновился: — Отныне славы я пою. Походы славлю и победы. А то сложу сказ величальный. Веселый, грустный ли — слушают с охотой…
— А мог бы ты поведать на Руси повесть о походе трудном? — князь Игорь встал, расправил плечи и, слабость переждав, продолжил: — Чтоб песнь твоя набатом по земле звенела. Чтоб долетела к каждому и, слух открыв, сердца бы озарила и поострила умы. Чтоб Русь, единым духом окрылившись, соединилась бы, аки персты на длани!
— Слова твои прелестны, князь! — воскликнул песнетворец. — Какой певец не тешится мечтой сложить такую песнь и овладеть сердцами всей Руси? Но скажи, о чем же будет повесть та? О войне и славе?
— О войне. И о позоре, — поведал Игорь. — Смог бы ты, позор восславив, призвать князей к единству? Наполнив их сердца обидою за пораженье, снять поволоку красную с очей и пробудить любовь? Чтоб к песне сей душою приложившись, аки устами прикасаются к кресту, давая клятву, никто из братии не смел нарушить заповедей слов святых?
— Чудно мне слышать, князь, такие просьбы, — расстроился гусляр. — В Руси, мне ведомо, в цене другие песни. Ушам князей приятна слава, дружине надобно веселье после ратных дел. Коль я же о позоре заиграю — меня опять забьют камнями! Никто не даст и на прокорм… Не слыхивал я, чтоб пораженье воспевали! Да ты здоров ли, князь?
— Я болен. — Игорь застонал. — Но ум пока что светел. Помысли же, гусляр. О славе песнь живет, пока есть слава. А жизнь ее короче вздоха! Но повесть о походе трудном, о позоре пробудит Совесть. Она же — дыхание всей жизни! И песнь о ней неподвластна Времени!
— Ты мудр, как Соломон, — гусляр вздохнул печально. — Беда лишь в чем твоя? За мыслями о вечности ты, князь, упустил тот самый вздох, который жизнь прервет. Есть надо каждый день. — Он возложил персты на струны, и по шатру поплыл веселый звон. — Послушай лучше, князь, о чудесах заморских! И вмиг забудешь про печали.
Князь Игорь дланью струны погасил и молвил тихо:
— Ты раб… Но ты же волен! Неужто распрей нет в твоей душе?
— Я же певец, не воин, — подивился тот. — И распри, князь, не мой удел.
— Ну, так ступай, — позволил князь. — Возьми, се хлеб тебе. Певцов и нищих на Руси и в самом деле любят.
Гусляр взял хлеб и, поклонившись, вышел. По новой вере, помнил Игорь, давая подаянье — богу подаешь.
Той же ночью, забывшись на мгновенье, в шатре услышал Игорь дыхание чужое. Очнулся, сел. Знакомый смрад сырой земли почудился ему.
— Ты, дед? Зачем пришел?
— Не дед я, — прошептал гость. — Я половчанин, именем Овлур.
— Ты мертвый?
— Нет, князь, я живой.
— Почто же чую я могильный дух?
— Ты сам, князь, на краю могилы, — сказал Овлур. — Гнилая рана тебя погубит скоро. Я снадобье принес. Хочу лечить тебя.