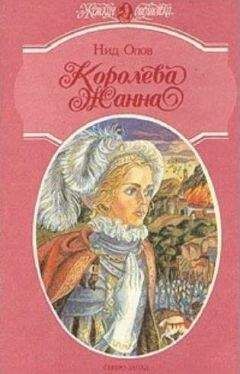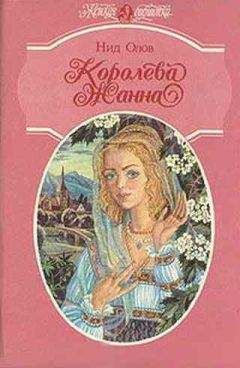В особняк на улице Филу он вошел как хозяин. Это был его особняк. Не выпуская из рук хлыста, он поднялся наверх, где его ждала дама, хорошенькая, очень белокожая брюнетка. Она улыбалась, но улыбка мало-помалу сползла с ее лица, на нем выступил испуг. Тогда он, словно спохватившись, нагнулся и поцеловал ей руку.
— Что с вами, месье? — спросила она. Голосок у нее был очаровательный, тем более что говорила она по-французски.
— Который час? — вопросом ответил он. — Ах, все равно, который час… Пойдем.
Они прошли внутренние покои, вошли в опочивальню. Он замкнул дверь, шагнул и стал — черный плащ размотался, сполз с одного плеча, открыв безобразно разорванный ворот камзола, ноги в белых сапогах расставлены, правая рука в перчатке сжимает хлыст.
Хорошенькая дама не знала, куда себя девать.
— Месье… что-то случилось?
— Раздевайся, — бросил он сквозь зубы.
Через некоторое время слуги и служанки маленького особняка с ужасом услышали пронзительные крики из спальни синьоры. Они сгрудились внизу, но подняться не решались: на лестнице, как всегда, столбами стояли трое вооруженных телохранителей. Эти ничему не удивлялись. Любимая камеристка синьоры поднялась по винтовой лестнице и подкралась к опочивальне с другой стороны. Обмирая от страха, она слышала через дверь свистящие шлепки хлыста, вопленные крики синьоры и мужской голос, выталкивающий с ненавистью: «Вот тебе… вот тебе… тварь… сука… итальянская шлюха…»
Она без памяти кинулась прочь.
Вскоре все смолкло. Телохранители стояли все так же, не двигаясь. Под потолком передней благостно сияла розовая люстра. Слуги тихонечко разошлись, шепотом повторяя про себя: «убил»…
Но герцог Марвы не убил свою любовницу. Он бросил хлыст, упал лицом в постель и зарыдал, или, скорее, зарычал, как смертельно раненный зверь. Итальянка, вся исполосованная, лежала ничком. Потом она приподнялась и посмотрела в его сторону сквозь завесу слез. Он стонал и конвульсивно дергался, сползая на пол. Женщина поднялась на колени, вытерла слезы и принялась собирать волосы с лица. Она увидела, как его рука слепо пошарила по полу, нащупала хлыст (она вся сжалась), и бросилась на постель.
— Бей меня… — глухо простонал он снизу. — Я негодяй…
Паэна Ластио, оскалившись, быстро схватила хлыст.
— Вы думаете, я не ударю вас, синьор?.. Вы обошлись со мной, как с девкой! Вы не знаете, как мне было больно?
Она соскочила с постели, размахнулась и перетянула его хлыстом поперек спины. Ручка у нее, при всей ее нежности, оказалась не такая уж слабая.
— Извольте поднять ваше мерзкое лицо, синьор! Вы одеты, и мне не интересно бить вас по спине!
Он поднял лицо. Невиданное дело: оно было в слезах. Но итальянка, озлобленная болью и позором, не заметила этого. Она наотмашь перекрестила лицо сиятельного герцога хлыстом, рассекла ему ухо и щеку. Он стоял перед ней на коленях, не отклоняясь от ударов и, кажется, даже не чувствуя боли.
— Бей… еще бей… — шептал он разбитыми губами. Увидев кровь, Паэна Ластио опомнилась. Нет, это был настоящий герцог Марвы. До нее вдруг дошло, что ведь это он тут рыдал, как раненый зверь. Ей стало страшно. Она метнулась, второпях накинула халат, схватила уже заранее налитый кубок с вином.
— Который час? — простонал он. Она вздрогнула.
— Что с тобой? — Она опустилась на колени рядом с ним. — Ну что случилось? Caro mio[82]… Выпей… Ну, скажи, скажи, что произошло? Присядь на постель… Ой, что же я сделала с твоим лицом! Погоди… — Она намочила полу халата в вине и протерла ему лицо, уже вспухшее от ударов хлыста. Он молча скрипел зубами. Она продолжала хлопотать над ним, стащила с него сапоги, расстегнула камзол, пыталась уложить его, но он отвел ее руки.
— Дай мне еще вина…
Он снова жадно выпил, выхлебал поданный ему стакан, потом поднялся, взял кувшин и налил еще. Паэна Ластио с испугом смотрела на него. Он ткнулся на край постели, не выпуская кувшина из рук.
Стали бить часы за стенкой: двенадцать. Он весь передернулся.
— Двенадцать… Как медленно тянется эта проклятая ночь… Я сойду с ума…
— Я тоже сойду с ума… Я все еще ничего не понимаю…
— Она сегодня там! Сейчас! — вдруг закричал он ей в лицо. — Мы отдали ее! Теперь ты понимаешь?! И я, я тоже отдал ее!.. И сейчас ее там…
Он осекся, точно ему не хватило воздуху. Паэна Ластио сжалась в комочек под своим пеньюаром и невольно отшатнулась от него.
— Вот, и ты тоже… — усмехнулся он, заметив ее движение. — Ах, впрочем, так мне и надо… Я неописуемый негодяй…
Внезапно он сорвался с места, но его порыв тут же и кончился. Он тупо взглянул на свои ноги.
— Какого черта я без сапог?
Он присел и принялся натягивать сапоги, морщась от непривычного усилия. Паэна Ластио молча следила за его действиями.
Надев сапоги, он прошелся по комнате, заложив руки за спину, склонив дико растрепанную голову.
— Но ведь еще не все потеряно… — произнес он медленно и вдумчиво. — Если я сознаю, что я — негодяй, значит, я не такой уже негодяй… я могу раскаяться… Нет! — вдруг яростно топнул он. — Нет, ни черта! Если я сознаю, что я изменник, предатель, — то я от этого не перестану им быть! Я предатель! Я хуже Иуды! Я гнусная тварь! И к чему привели все мои ухищрения, игра ума? Я тут, а она… она там… она сейчас там… ее… — И он снова осекся.
— А зачем?! — воскликнул он страстно, как Иисус в Гефсиманском саду. — Для кого старался, изобретал, превосходил самого себя? Кто меня любит? Одна ненависть в награду! Теперь они свивают мне петлю! Я сделал свое дело, я им больше не нужен! Друг друга они ненавидят, но против меня… о, против меня, это же Л-лианкар… против меня они объединяются все! Все!! Все союзники — против Лианкара! Они съели бы меня живьем, не запивая! А она… она та-а-ам! О, я заплакал бы, если б мог!
— Но ты же плакал, — робко сказала Паэна Ластио.
— А? — встрепенулся он. — Я? Нет, это был не я. Слезы? — Он даже потрогал обеими руками лицо. — Нет, какие слезы, это холодный пот… Предатели не плачут, им некогда. Ах, если бы не я — у них ничего, ничего, ни-че-го не вышло бы! Все они сдохли бы десять раз, если бы не я! Фрам!.. Да я в руках его держал, вот так! — Он показал сжатые кулаки. — А Чемий, старый фанатик! Тоже мне Меланхтон! А кто направил его по этому пути, кто дал ему документы? Я! А кто рисковал больше — головой, шкурой своей рисковал, самой вульгарной собственной шкурой, — они, что ли? Я! Я ходил по лезвию ножа два года, я рисковал каждый день! Ведь на мне же, на мне держалось все! Кто убил Вильбуа? Я его убил. Этим господам и в голову не пришла такая простая вещь! А когда мне принесли найденные на его трупе записки: Лианкар принят в Лигу там-то и тогда-то — мог ли я быть уверен, что он уже не показал эти записочки ей?! Легко ли мне было, когда я шел к утреннему выходу Ее Величества? Другой на моем месте бежал бы без памяти — а я остался! Она никогда не верила мне! А этот болван Джулио Респиги, которого я же посадил наместником — когда Плеазант арестовал его, кому грозила первая опасность? Мне! Я организовал им отличный мятеж в Генуе, я вырвал его из лап телогреев, а уверен ли я был, что он уже не разболтал всего?.. Да что Респиги — а моя переписка, мои курьеры? Любого из них могли схватить в любой момент, случайно — и бывало, что хватали! Каких усилий мне стоило, чтобы эти ублюдки умерли раньше, чем заговорят? А этот мальчишка Гриэльс, этот старый дурак, барон Респиги — они целый год были на волосок от пытки, — кто их спас? И — ни слова признательности!.. А кто поменял им графа Марче, этого остолопа, на Финнеатля? Изящно было сделано… — На лице его даже появилась мечтательная улыбка гурмана. Паэна Ластио тоже сладко улыбнулась при имении Финнеатля. Вообще, чем дольше Лианкар говорил, тем больше она успокаивалась. Она удобно легла поперек постели на живот, положила руки под подбородок и внимательно слушала его. А он, не глядя на нее, брызгаясь, злобно перечислял свои заслуги:
— Я ли не знал про голубые банты и красный флаг? Я, что ли, был виноват, что они опоздали атаковать? Я ли не сходил с ума, видя, как они дурацки гибнут, за ничто, не успевая крикнуть: не бейте своих?! А ведь надо было ехать и поздравлять ее с победой… мог ли я ручаться, что меня тут же не арестуют? Но я поехал — а легко ли мне было?.. — Он выпил свой стакан и вдруг снова взъярился: — А потом надо было выручать д'Эксме — его взяли тепленького, прямо в кабинете у Фрама, и я пошел к ней и выручил его! А теперь этот пес переметнулся к победителю! Все забыл! И эта сволочь Респиги!.. А, что говорить о благодарности! Я сам — неблагодарный пес. Сам знаю, что заслуживаю презрения, вот… даже ты скривила свой ротик… но, черт меня возьми! Уж Респиги-то мог бы и спрятать свои наглые глаза!
Пробило час, и он снова весь передернулся, как от боли.
— О! Все еще час… Боже, как далеко еще до рассвета… Донна, меня знобит… — Он схватил себя руками за плечи, подошел к постели, опустился на пол перед ее лицом, засматривал ей в глаза. — Нет… и ты меня не жалеешь… Я тебя больно побил?.. А она… ей сейчас… — Он упал лицом в одеяло, и опять все его существо потряс утробный страшный звук — у него как будто лопалась душа. Паэна Ластио выпростала одну руку и положила ему на голову.