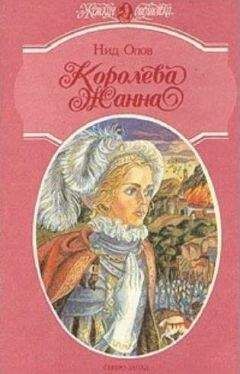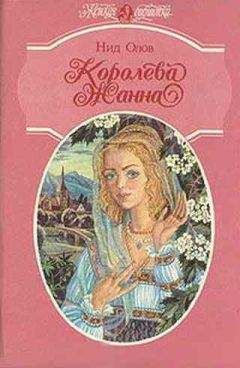Пробило час, и он снова весь передернулся, как от боли.
— О! Все еще час… Боже, как далеко еще до рассвета… Донна, меня знобит… — Он схватил себя руками за плечи, подошел к постели, опустился на пол перед ее лицом, засматривал ей в глаза. — Нет… и ты меня не жалеешь… Я тебя больно побил?.. А она… ей сейчас… — Он упал лицом в одеяло, и опять все его существо потряс утробный страшный звук — у него как будто лопалась душа. Паэна Ластио выпростала одну руку и положила ему на голову.
— Говори еще, если не можешь плакать, — прошептала она, — тебе станет легче…
— Держи меня, держи, ради Господа Бога, — глухо сказал он, — иначе я убью себя.
Он закостенел, вцепившись в одеяло, чтобы сдержать дрожь: он слушал время. Итальянка поглаживала его развившиеся локоны. Она уже давно наблюдала за ним. Нет, он не разыгрывал комедию, все это была правда. Он попросту сломался, этот гибкий, стальной Лианкар.
— Я не видел ее уже три месяца, — наконец сказал он, не поднимая головы. — Я открыл им Толет… Без меня их бы тут не было… и она была бы королевой… Теперь все равно, все равно… Поздно, поздно, поздно…
— Ты же знал, что этим кончится, — вдруг сказала она, — для чего же ты не голосовал «против»? Это не изменило бы ее судьбы, ко зато на твоей душе не было бы камня, который… — Она чуть было не сказала «сломал тебя», но проглотила эти слова; впрочем, он понял ее и так.
Он приподнялся, легким сильным движением обычного Лианкара, присел на постель у нее в головах.
— Синьора, вы правы, — сказал он своим обычным, Лианкаровым голосом, — я не стою и сломанной подошвы, потому что я сам сломался. Я просил у вас капельку жалости, сочувствия — сознаю, что это глупо, и прошу меня извинить, синьора Ластио.
Она взглянула на него с тревогой. Но он, как ни в чем не бывало, налил вина и протянул ей. Отпили. Она еще раз посмотрела на него и успокоилась.
— Caro, ты ничего не скрываешь от меня? — деловито спросила она. — Что еще произошло на заседании Совета? Ну, все они смотрели на тебя, как на merde (очень странно прозвучало это вульгарное ругательство в устах столь прелестной дамы, но выговорила она его без запинки). А что было еще? Каковы реальные угрозы? Ненависть — это еще очень мало…
Тогда он улыбнулся — до того странно, что у Паэны Ластио екнуло сердце, — неторопливо, тщательно взял ее за волосы, оттянул их так, что она не могла закрыть глаз, перевернул ее на спину и, глядя в ее запрокинутое лицо, сказал:
— Паэна Ластио, — голос у него стал воркующий, как у голубя, итальянка, католичка, выученица иезуитов, приставленная ими ко мне и изменившая мне с Финнеатлем… — теперь она раскрыла рот уже от настоящего животного страха… — если ты — Паэна Ластио, то я — все еще Лианкар… и уж на тебя-то, маленькая мушка, меня хватит. У меня не дрогнет рука отдать тебя нашему архипсу кардиналу Мури, будь он трижды благословен. От такого подарка он не откажется, он найдет, в чем тебя обвинить, и ты ему все подтвердишь… там, внизу. Сейчас там находится великая королева, ею занимаются фригийцы, превосходные мастера… Великая королева, которой ты обрезка ногтя не стоишь, висит там сейчас на вывернутых руках, и фригийцы трудятся над ней, как крючники… видишь, у меня поворачивается язык сказать все. Я — негодяй, я — предатель, но все-таки я Лианкар. Запомни это, Паэна Ластио.
Он опустил ее, мокрую и обмякшую — она без сил ткнулась ничком в одеяло, — встал, отошел к окну. За окном был полный, абсолютный мрак.
— Это величайшее преступление, уж хуже этого не бывает, — сказал он тихо, обыденно. Она лежала неподвижно, даже не дрожала. Он повернулся к ней и продолжал издали: — Это мой предел. Весь мир содрогнется. И сделал это я, один я. Будут говорить: кровавый палач Фрам. Фанатичный людоед Чемий, лжепастырь, воплощенный Антихрист. Они пили королевскую кровь, прямо из чашки, и закусывали королевским мясом. Так скажут про них. Про меня будут говорить другое. Изменник Лианкар. Подколодная змея, пригретая на королевской груди. Правда. Lili[83], как говорит наш друг граф Финнеатль. Но правда не вся. — Он неторопливо подбирал слова, он даже любовался своим красноречием. — Я — первый испиватель королевской крови. Я дал им пить эту кровь, я пустил их, я их подталкивал. Несчастная девочка… Душить надо Чемия и всю его черную братию, вот что. Я, говорит, не подниму руки на королеву — Боже меня оборони, — но она, говорит, не королева, она всего лишь маркиза Л'Ориналь, она, говорит, ведьма… Ошибаетесь, ваше преосвященство, пагубное заблуждение. Она-то — самая что ни на есть настоящая королева, а вот вы, ваше преосвященство, посмотрели бы на себя в зеркало — не похожи ли вы на вора, укравшего кардинальскую шапку?.. Ты слушаешь меня?
— Да, — глухо отозвалась женщина.
— Не бойся меня. Я не отдам тебя Чемию. Ты слышишь?
— Да.
Пробило два часа.
— Длинная вещь — время, когда его замечаешь. Она очень чувствует его сейчас… Но ведь не каждую же секунду ей больно, а? — вдруг спросил он озабоченно. — Ведь черные хвосты чинят ей допрос… спрашивают у нее всякую чушь… На это тоже уходит время… Господи, только бы она говорила побольше… все равно что, лишь бы говорила, говорила… Вот я — говорю, говорю, а время идет… ведь идет… а?..
— Ты сходишь с ума, — простонала женщина, — и я сойду с ума… Джузеппе, carissimo mio[84]… перестань!
Он дребезжаще захихикал и никак не мог остановиться.
— Ну нет… не ждите… хи-хи-хи… я-то с ума не сойду… Все сойдут с ума… ты сойдешь сума… и Фрам… хи-хи-хи… этот государь… il principe[85]…[86] хи-хи-хи… сойдет с ума… и все крысы, белые крысы, серые крысы, черные крысы… все сойдут с ума… а уж потом… хи-хи-хи… потом-потом-потом уж я… хи-хи-хи…
Паэна Ластио поднялась в постели, смотрела на него дикими глазами.
— Ты дьявол! Дьявол! — завопила, заревела она. — Я боюсь тебя! Не подходи, ааа! Лучше убей! Отдай палачам! Я больше не могу-у!
— А, вот и тебе стало страшно, шлюха! — зарычал он в ответ, и она обрадовалась — обрадовалась его голосу, обрадовалась даже этому оскорбительному слову, — перед ней был здоровый человек, не безумец. — А мне не страшно? Я тебе уже битый час толкую о том, что происходит сейчас, этой ночью, а ты… ты лежишь, как кукла, и помнишь наставления отцов-иезуитов, ты шпионишь! Крепко же они вбили их в тебя, если их даже плетью не выбьешь! Ну и отлично, я сам больше всего люблю шпионов! Мне не мешает твой шпионаж! Но сегодня у меня раскололась душа, мне надо кому-то выкричаться… прах тебя возьми, потом пиши все в своих донесениях, но сейчас-то я хочу видеть живого человека, а не куклу! У меня сегодня все сердце вывернуто наизнанку! Ты думаешь, я собираюсь каяться? Как бы не так! Да и кому? Господу Богу? Если он есть… — Паэна Ластио перекрестилась… — да я на его месте не стал бы и слушать такого грешника! На мне ни одного светлого пятнышка нет! А звать священника — ах, отче, confiteor[87]… ну уж нет! Он либо дурак — а на что мне дурак? — либо не хуже меня негодяй, как Чемий, либо шпион, как твои отцы-наставники. Я предал королеву! Вот что я сделал! И не говори мне, что я не знал этого до сего дня! Все знал! И все сделал, чтобы довести вот до этой ночи! Я не щадил ее!.. Я…
Тут он снова запнулся. Паэна Ластио проглотила клубок.
— Ты ненавидел ее? — спросила она тоненьким голоском.
— Не твое дело! — грубо рявкнул он. — Ах, Чемий, старый крокодил! Как мы с ним работали! Какой spectaculum с интердиктом мы разыграли!.. Этого блаженного дурака Гроненальдо не надо было и манить в силок, сам пошел… ему бы вообще в кресле сидеть, а не политикой заниматься… Мы со старцем надули решительно всех! И что же?! Сделал свое дело — и уходи?! Теперь мы тебя уничтожим!..
— Джузеппе, caro mio, — сказала Паэна Ластио, — ты чувствуешь опасность, я же вижу.
Он подошел и сел рядом с ней.
— Да, — сказал он так же просто, по-человечески, — я чувствую опасность. Скажу больше: когда я спускался по лестнице, я воочию видел себя на эшафоте. Как будто кто-то гравюру держал передо мной, такую четкую, с резкими тенями: Лианкар на помосте, и все смотрят на него. Никогда прежде не видел таких снов с открытыми глазами. И я испугался. И ты… и ты тоже наконец-то испугалась… Теперь мы поймем друг друга… Иди сюда…
Она прильнула к нему, он обнял ее и коснулся губами ее соленых ресниц.
Пробило три часа. Они вздрогнули оба — как одно существо.
— Джузеппе! — вдруг вскрикнула она. — Гляди, светает!
За окном было еще темно; но чернота сменилась густой синевой. Герцог Марвы сказал:
— Ей осталось полтора часа… Между четырьмя и пятью…
Она поежилась. Теперь она ждала рассвета, как соучастница. Он погладил ее вспухшую спину под пеньюаром.
— Очень больно?
— Нет, caro mio, нет…