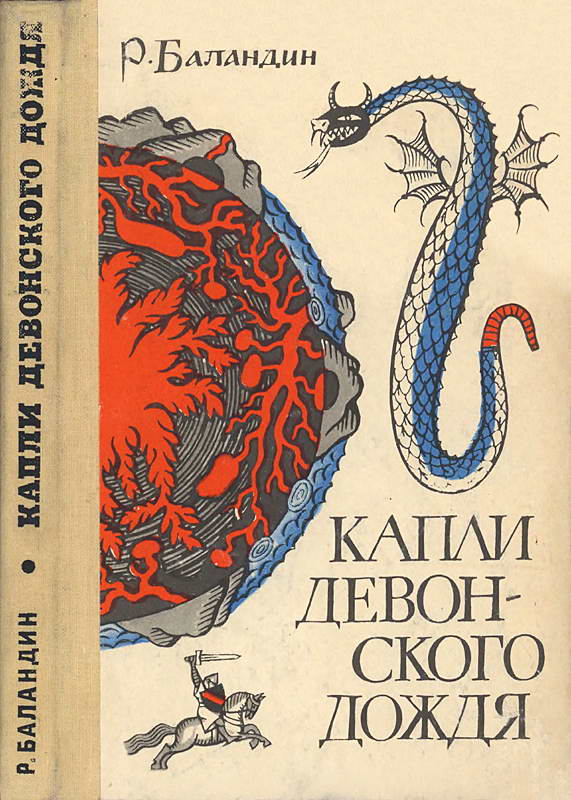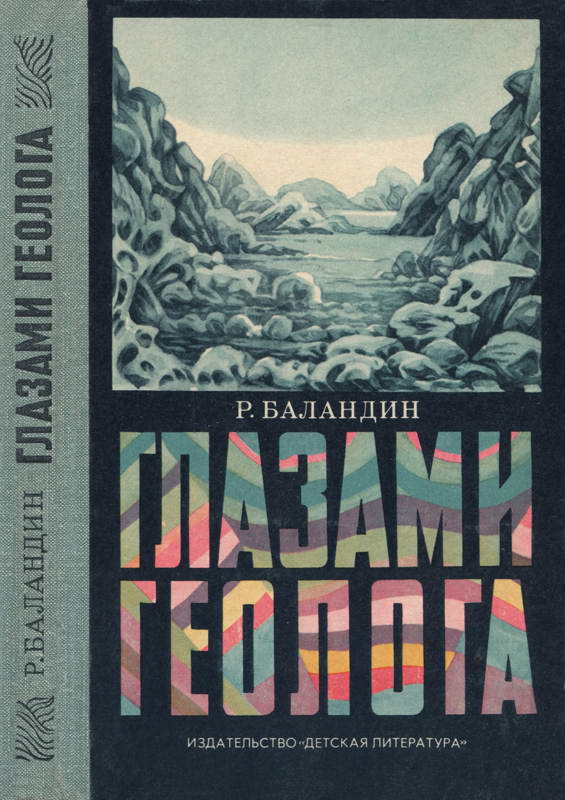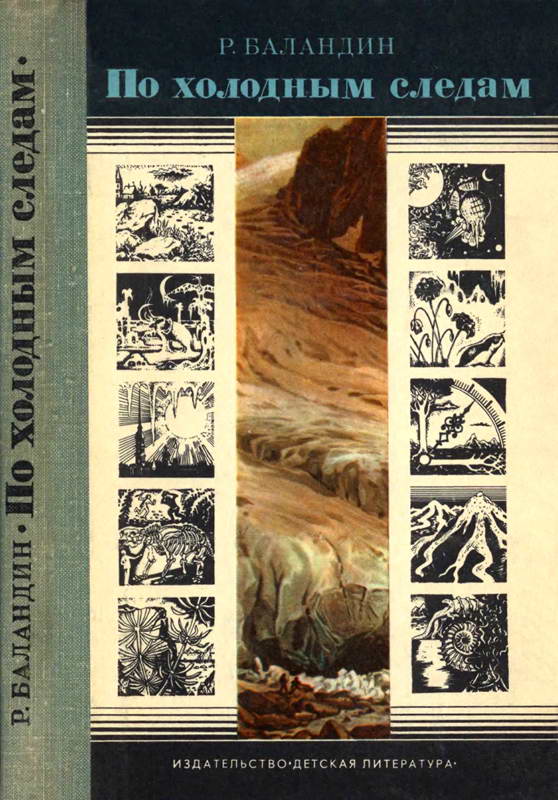это огромная энергия».
Был и другой тип революционера, предпочитающего материально обеспеченную жизнь партийного функционера. К этой разновидности относился, например, Лев Троцкий. Революционером нечаевского типа был Нестор Махно.
* * *
Существовали в Евразии, Северной Америке великие ледники, покрывающие огромные территории. Если их растопить быстро – революционно! – потоки талой воды устремятся в долины, как потоп, круша всё на своем пути.
Кропоткин в системе учения о ледниковом периоде выделил озёрно-болотную фазу деградации ледников. Она становится тяжёлым испытанием для наземных животных этого региона: происходят массовые вымирания прежде всего крупных млекопитающих. (Он не знал, что в этом повинны главным образом люди.)
Нечто подобное происходит в закостеневшей общественной системе. Она деградирует. Но быстрый решительный слом этого уклада вызывает катастрофические последствия. Происходит не подъём, а стремительный упадок. Только после того, как завершится революция (на это уходят многие годы), формируется новая общественная система, чаще всего более динамичная, чем предыдущая.
Подобные рассуждения редко образумят людей нетерпеливых или жаждущих славы, власти, быстрого и полного проявления своих сил. Да и революции бывают разные; их не обязательно сопровождают ожесточённые гражданские войны, массовые убийства, эпидемии, голод, разрушения.
Пётр Кропоткин старался подготавливать радикальную перестройку общества при наименьших жертвах. (Такими были в России Февральский и Октябрьский перевороты 1917 года; хотя их последствием стала Гражданская война.)
Свой выбор он определил: продолжая научные исследования, вести революционную агитацию и подготавливать демократические преобразования в России.
В феврале 1872 года, взяв отпуск, он приехал в центр русской политической эмиграции – Швейцарию. Вступил в одну из местных секций Интернационала. Чтобы ознакомиться с теорией и практикой рабочего движения, прочитал массу литературы: «Я читал целые дни и ночи напролёт, и вынесенное мною впечатление было так глубоко, что никогда ничем не изгладится».
Сказалась дисциплина мысли, выработанная за годы научных исследований. Разобщённые сведения и разноречивые мнения он свёл к немногим логически выверенным выводам: «Во всех социальных вопросах главный фактор – хотят ли того-то люди? Если хотят, то насколько хотят они этого? Сколько их? Какие силы против них?»
В Женеве собирались секции Интернационала. Кропоткин подружился с некоторыми рабочими, вечерами подолгу просиживая с ними в кафе за стаканом сухого вина. Чем ближе он узнавал этих людей, тем более проникался симпатией к ним.
Граф Лев Толстой крестьянствовал. Князь Кропоткин освоил ремесло часовщика. Однажды он починил часы известному русскому марксисту Георгию Плеханову.
Иначе сложились его отношения с некоторыми деятелями Русской секции. Скажем, Николай Исаакович Утин – «образованный, ловкий и деятельный человек» – удивил Кропоткина своим пристрастием к комфорту и возмутил своей политической беспринципностью. Подобные люди приспосабливались к движению рабочих ради личных выгод.
Глубоко врезались в душу Кропоткина встречи с участниками Парижской коммуны и рассказы о жестоком её подавлении. Вновь его мысль стремится к чётким выводам: «Парижская коммуна – страшный пример социального взрыва без достаточно определённых идеалов».
«Вопрос не в том, как избежать революции – её не избегнуть, – а в том, как достичь наибольших результатов при наименьших размерах гражданской войны, то есть с наименьшим числом жертв и по возможности не увеличивая взаимной ненависти».
* * *
Кропоткин возвратился в Петербург в мае идейным революционером, веря в правду и благородство коммунистических идеалов. По его мнению, сложившемуся в Швейцарии, коммунизм возможен в двух вариантах: государственный военно-деспотический или анархический, основанный на свободных профессиональных объединениях трудящихся. Пётр Кропоткин выбрал безвластие.
В России большинство пролетариев было неграмотно не только в политическом смысле, но и в ученическом, школьном. Ясных социальных идеалов они не имели вовсе, а представления о самодержавии и капитализме у них были туманные.
Что делать революционерам в такой среде? Одним из ответов стал выстрел Дмитрия Каракозова 4 апреля 1866 года в Александра II. Но вопреки теоретическим предпосылкам, этот акт не отозвался всероссийским революционным эхом. «Народ безмолвствовал».
Настроение части русской интеллигенции выразил в 1868 году Фёдор Достоевский: «Все понятия нравственные и цели русских – выше европейского мира. У нас больше непосредственной и благородной веры в добро, как в христианство, а не как в буржуазное разрешение о комфорте. Всему миру готовится великое обновление через русскую мысль (которая плотно спаяна с православием…), и это свершится в какое-нибудь столетие – вот моя страстная вера».
Терроризм в России затаился, исподволь накапливая силы и авторитет. Сергей Нечаев создал тайное общество «Народная расправа»: несколько пятёрок, состоящих преимущественно из студентов. Нечаев стал осуществлять террор прежде всего внутри своей организации. Под его руководством был зверски убит «сомневающийся» И. И. Иванов «для пользы революционного дела».
Преступление было быстро раскрыто. Нечаев успел скрыться за границу. Над нечаевцами устроили показательный суд – первый гласный политический процесс в России. Последствия его были не только такие, которые предполагало правительство. Да, образ и действия бунтарей-террористов вызвали общественное возмущение. Достоевский выразил его в романе «Бесы». Однако впервые революционные идеи открыто прозвучали в стране. От этого революционеров не стало меньше.
Почему же Пётр Кропоткин, несмотря на кровавые акции террористов, не отказался от своих анархических убеждений? Почему его не образумило пребывание в благоустроенных странах: Швейцарии, Франции, Англии? Почему не вдохновил пример буржуазных демократий?
Прежде всего, по самой простой причине: он знал, что Россия – не Швейцария или Англия. У неё иное географическое положение, иная история и культура, иной народ. Судьба каждой страны индивидуальна, как любого человека. Что уж говорить о России с её неохватными просторами, суровым климатом и отсутствием колоний, за счёт которых она, подобно многим державам Запада, могла бы богатеть.
* * *
В начале XX века Пётр Кропоткин приступил к новой для себя теме: истории Великой французской революции. Он пережил серию сердечных приступов, чувствовал себя плоховато. Знакомые историки не советовали ввязываться в бурные споры о ходе, движущих силах и причинах революции, которой посвящены тысячи противоречивых работ. Но трудности на то и существуют, чтобы их преодолевать.
Пётр Алексеевич писал, что приступает к работе, «надеясь лучше запечатлеть… в уме читателя различные течения мысли и деяний, столкнувшиеся во время Французской революции, – течения, настолько обусловленные самой сущностью человеческой природы, что они неизбежно встретятся и в исторических событиях будущего».
Историки традиционно исследовали борьбу за власть партий, групп, вождей. По мнению Кропоткина, главная могучая глубинная и не сразу заметная революционная стихия определяется восстанием масс, а не деятельностью руководителей. Этим отличается революция от переворота, свержения власти. В ней он выделил две движущие силы: буржуазию и крестьянство с городским пролетариатом.
Интересы буржуазии: свобода промышленности и торговли от государства и свобода эксплуатации наёмных работников ради личного обогащения. А деревенская и городская беднота